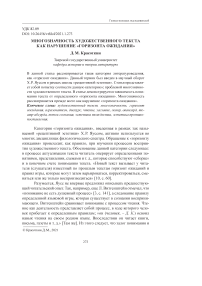Многозначность художественного текста как нарушение "горизонта ожидания"
Автор: Красоткин Дмитрий Михайлович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается такая категория литературоведения, как «горизонт ожидания». Данный термин был введен в научный оборот Х.Р. Яуссом в рамках школы «рецептивной эстетики». Статья представляет собой попытку соотнести данную категорию с проблемой многозначности художественного текста. В статье демонстрируется зависимость понимания текста от определенного «горизонта ожидания». Многозначность рассматривается прежде всего как нарушение «горизонта ожидания».
Художественный текст, многозначность, горизонт ожидания, аграмматизм, дискурс, чтение, заглавие, жанр, авангард, театр абсурда, поток сознания, эстетика тождества, эстетика противо поставления
Короткий адрес: https://sciup.org/146282249
IDR: 146282249 | УДК: 82.09 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.273
Текст научной статьи Многозначность художественного текста как нарушение "горизонта ожидания"
Категория «горизонта ожидания», введенная в рамках так называемой «рецептивной эстетики» Х. Р. Яуссом, активно используется во многих дисциплинах филологического спектра. Обращение к «горизонту ожидания» происходит, как правило, при изучении процессов восприятия художественного текста. Обоснование данной категории следующее: в процессе актуализации текста читатель оперирует определенными понятиями, представлении, схемами и т. д., которые способствуют «сборке» и в конечном счете пониманию текста. «Новый текст вызывает у читателя (слушателя) известный по прошлым текстам горизонт ожиданий и правил игры, которые могут затем варьироваться, корректироваться, сменяться или же только воспроизводиться» [10, с. 60].
Разумеется, Яусс не впервые предложил описывать предшествующий читательский опыт. Так, например, еще Л. Витгенштейн отмечал, что «понимание не есть душевный процесс» [3, с. 141], а следование правилу определенной языковой игры, которая существует в сознании воспринимающего. Витгенштейн сравнивает понимание с процессом чтения. Чтение как деятельность представляет собой процесс, в ходе которого человек прибегает к определенным правилам; «он (человек. – Д. К .) освоил навык чтения на своем родном языке. Впоследствии он читает книги, письма, газеты и т. д.» [Там же]. Из этого следует, что залог понимания и
его глубины кроется во владении читателем определенными конструктами, которые сформировались в предшествующем опыте. В современной герменевтике, как считает Л.Ю. Фуксон, укоренилось положение о том, что «понимание укоренено в предшествующем опыте, никогда не начинаясь, “с нуля”, так сказать» [9, с. 3]. В частности, укоренению этого положения поспособствовал Г.-Г. Гадамер, который также задолго до концепции Яусса писал, что «проблеск смысла в свою очередь появляется лишь благодаря тому, что текст читают с известными ожиданиями, в направлении того или иного смысла» [4, с. 75]. Следом же Гадамер отмечает, что сам процесс понимания текста заключается в том, чтобы «разрабатывать такую предварительную проекцию смысла, которая, впрочем, постоянно пересматривается в зависимости от того, что получается при дальнейшем вникании в смысл» [Там же].
Гадамер делает очень важную поправку. Предварительная проекция смысла, по мысли Гадамера, непременно корректируется в процессе чтения, и это естественный ход восприятия любого текста. О схожем претерпевании изменений «горизонта ожидания» пишет и Яусс. Особенность концепции Яусса заключается в том, что автор предлагает способ формализации и восстановления «горизонта». Этот анализ всячески избегает «угрозы психологизма» и оперирует лишь «объективируемой референциальной системой ожиданий». Система ожиданий складывается из «предпонимания жанровых особенностей, формы и тематики известных к этому времени произведений и из оппозиции поэтического и практического языков» [10, с. 59]. Из этих составляющих и складывается «горизонт ожидания».
Трактовка Яусса так или иначе предлагает определенную методологию, которую он активно использовал при изучении восприятия художественных текстов разных эпох. Яусс восстанавливает по указанным формальным признакам определенный «горизонт ожидания» и анализирует то трение, которое возникает между предзаданным направлением читательского восприятия и собственно текстом. В конечном счете Яусс приходит к выводу, что именно этим «горизонтом ожидания» (или же «горизонтами ожидания») формируется смысл (или же смыслы) произведения.
Взаимодействие читателя и художественного текста было в том числе описано Ю.М. Лотманом, который (вполне в духе «рецептивной эстетики») в своей работе «Структура художественного текста» выделил два глобальных типа эстетических парадигм: так называемые эстетика тождества и эстетика противопоставления. Эстетику тождества «составляют художественные явления, структуры которых наперед заданы, и ожидание слушателя (воспринимающего. – Д. К.) оправдывается всем построением произведения» [5, с. 349]. Эстетика тождества «основывается на полном отождествлении изображаемых явлений жизни с уже известными аудитории и вошедшими в систему “правил” моделями-штампами» [Там же, с. 350]. Эстетику противопоставления составляют «системы, кодовая природа которых не известна аудитории до начала художественного восприятия» [Там же, с. 353].
Лотман формулирует два типа взаимодействия «горизонта ожидания» и художественного текста. Первый тип включает в себя ситуации совпадения ожидания и текста, второй тип – ситуации с несовпадением ожидания и текста.
В настоящей статье мы остановимся подробно именно на нарушении «горизонта ожидания» и будем доказывать, что следствием этого нарушения является повышение потенциальной интерпретативности художественного текста. Такие тексты, как правило, больше предрасположены к многозначному истолкованию.
Возвращаясь к эстетическим парадигмам, стоит отметить, что нарушение «горизонта ожидания» относится не только к эстетике противопоставления. К эстетике тождества это относится в такой же степени. Разница в этих нарушениях состоит лишь в том, что нарушение это производится на разных уровнях структуры. Об этом пишет и Лотман: «Чтобы существовало отождествление, необходимо и разнообразие. Для того, чтобы неустанно можно было бы повторять: “Это есть А”, – следует, чтобы А’ сменялось А’’, и так до бесконечности» [Там же, с. 351].
Таким образом, можно сделать заключение: любое восприятие художественного текста связано с нарушением предшествующего читательского опыта. И это нарушение, этот слом, который происходит в читательском восприятии, повышает смысловую плотность текста, придает ему некоторую амбивалентность.
Перед тем как перейти к примерам, произведем небольшой комментарий относительно понятий «восприятие» и «художественный текст». Дело в том, что могут возникнуть вопросы относительно того, каким образом нарушение «горизонта ожидания» даже профессионального читателя коррелирует с текстом. Иначе говоря, вопрос стоит следующим образом: это нарушение относится к тексту или же это нарушение лишь читательских ожиданий? Вопрос довольно сложный и неоднозначный. Если рассматривать текст с точки зрения статики, по-структуралистски, то справедливо будет сказать, что текст не содержит никаких нарушений, он целостен. Главная максима структурализма – текст представляет собой структуру, в которой все элементы друг с другом взаимосвязаны при помощи кода. Нарушение же связано с выпадением какого-то элемента из структуры, поэтому в этом случае оно будет относиться скорее к читательскому восприятию, к внетекстовым структурам (по Лотману). Но вопрос на этом не решен.
Дело в том, что в современной филологии акценты несколько смещены. Как считает В. А. Миловидов, «на смену тексту как объекту изучения в современной филологии приходит новый объект – дискурс» [7, с. 12]. Текст же в этом разделении является как бы следом дискурса. Исследователь дает следующее определение дискурсу: «…диалогическая и динамическая мыслительно-речевая практика, протекание которой обусловлено местом, временем, культурно-историческим и социально-психологическим контекстом говорения (креативным контекстом) и слушания (рецептивным контекстом), характером намерений говорящего и слушающего, характеристиками объекта, особенностями специализированных языков, которыми кодируется сообщение, а также особенностями языков декодирования» [Там же, с. 13]. Определение это выглядит довольно объемным, но, на наш взгляд, наиболее полным.
Такое подход к делу отставляет в сторону прежние представления о разделении внутритекстовых и внетекстовых структур. С этой точки зрения, любые элементы текста являются не непосредственно данными, а постигающимися через восприятие и непосредственно зависящими от него. Поэтому для этой научной парадигмы в исследовании во главе угла стоит «не эстетический объект, а работа и игра, не структура, а структуропорождающий процесс» [1, с. 82].
Таким образом, в данной статье мы будем говорить о «горизонте ожидания» именно как о части структуропорождающего процесса.
Обратимся к примерам и начнем с такой важной части любого художественного высказывания, как заглавие. Заглавие как сильная позиция текста у любого читателя, даже не имеющего никакого опыта коммуникации с художественным текстом, формирует определенные ожидания. Р. Барт относит заглавие к герменевтическому коду, который представляет собой «такую совокупность единиц, функция которых – тем или иным способом сформулировать вопрос, а затем и ответ на него» [2, с. 61]. Вспомним широко известный хрестоматийный пример: заглавие романа Л. Н. Толстого «Война и мир» и те изменения, которые оно претерпело. В дореволюционной орфографии языковая омонимия слова «мир» разводилась формально, то есть слово в разном значении имело разное написание. Так, слово миръ обозначало «отсутствие ссоры, вражды, несогласия», а слово мiръ – «вселенная, земной шар, род человеческий». Известно, что в окончательном опубликованном варианте у Толстого значилось написание «Война и миръ». У читателя его времени значение этого слова и заглавия вызывало определенные ассоциации и ожидания относительно всего текста. С орфографической реформой графическое различение омонимов утратилось, что предоставляет читателям определенную свободу выбора в прочтении. А текст предоставляет равные возможности как для одного варианта, так и для другого. В этом и происходит наруше- ние ожиданий: поскольку текст романа широко освещает проблематику обоих понятий, то так или иначе в восприятии текста происходит определенный слом. Впрочем, читатель вполне может читать роман только в аспекте «война и отсутствие войны» и не актуализовать другое значение, но многозначность формируется именно при семантическом сломе.
Семантический слом может происходит за счет жанровых сдвигов. Именно так было со знаменитым «Сидом» П. Корнеля. До сих пор ломаются копья в определении жанровой отнесенности пьесы. Сам Корнель считал, что пьеса является «трагикомедией», и хотя автор писал для режиссеров свое собственное видение своих пьес, зритель видел типичную постановку классицистической трагедии. Заметим, что эпоха классицизма – типичный пример эстетики тождества. Только с пьесой Корнеля происходило нарушение «горизонта ожидания», столь крепко заложенного классицистической нормативной культурой (вероятно, поэтому Корнель называл пьесу именно трагикомедией, пытался вписать свой текст в классицистические нормы). Пьеса по характеру и типам конфликта несомненно тяготеет к трагедии. Но по разрешению конфликта и по соблюдению трех единств пьеса с трудом может быть вписана в трагедийный канон. Напомним, что в финале пьесы Родриго (Сид) остается жив и получает благословение короля на свадьбу с Хименой. Корнель разрешает внутренний конфликт, что нетипично для трагедии. Так же вольно он обращается с триединствами: время действия превышает сутки, единство места расширяется до города, действие происходит в разных его частях. Пытливый читатель может решить, что Корнель травестирует канон. В итоге история литературы знает прочтение пьесы и как трагедии, и как трагикомедии и даже героической комедии.
Кроме нарушений жанрового канона, хорошо известны попытки изменения традиционной фактуры текста. Много примеров таких экспериментов дал русский авангард начала XX века. Радикальный отказ от привычных, веками сложившихся форм литературности несомненно является примером нарушения «горизонта ожиданий». Например, заумная поэзия, в рамках которой авторы отказывались от привычного языка. Приведем хотя бы знаменитое стихотворение А. Крученых:
Дыр бул щыл убеш щур скум вы со бу р л эз
В этом стихотворении Крученых отказывается еще и от фонетики русского языка ( щыл ). Значения же оказываются совершенно неопределенными. Такое нарушение оставляет читателя с полной свободой концептуализации смысла данного текста.
Сходная ситуация с поэмой Василиска Гнедова «Поэма конца», которая, кроме заглавия, ничего не имеет. Поэма была напечатана с заглавием посередине страницы, а остальное пространство представляло собой чистый лист бумаги. Читательский горизонт также нарушен. Сама же плоть текста Гнедова представляет собой нулевой знак, то есть от текста остается лишь его позиция при отсутствии каких бы то ни было иных знаков. Как оказалось, одной этой знаковой позиции (как бы возглас автора «Здесь должен был быть текст!») недостаточно для уничтожения понятие текста (в широком понимании). Эта редукция элементов текста не разрушает текст, но нарушает горизонт читательского восприятия. И точно так же, как и с текстом Крученых, читатель волен трактовать «текст» сколь угодно широко.
Можно привести примеры текстов, которые нарушают «горизонт ожидания» за счет как бы отсутствующей структуры. Например, театр абсурда. Хрестоматийный пример – пьеса С. Беккета «В ожидании Годо», где монологи Лакки и Поззо представляют собой нелогизированную, абсурдную речь. Или роман «потока сознания» Дж. Джойса «Улисс», где запечатлена «экспериментальная попытка фиксации реального протекания мыслительного процесса» [6]. Но здесь установка на абсурдность «вносит известную логику в алогичное, структурирует неструктурированное; здесь, сказали бы мы, наблюдается не отсутствие структуры, а “минус-структура”, становящаяся эмблемой онтологической ситуации, “вчитываемой” в “минус-текст”» [Там же]. Подчинение таких текстов логике также остается в воле читателя, поскольку тексты сами по себе оказываются фактически раздробленными (по выражению Р. Барта).
Нарушение «горизонта ожидания» часто связано с определенным семантическим сломом. Схожая мысль есть в теории аграмматичности М. Риффатера: «Аграмматизм – понятие относительное: в литературе это отклонение <…> от заданного горизонта ожидания, семантический и стилистический слом» [8, с. 19–20]. За счет этого слома происходит наращивание коннотаций и увеличение семантической плотности текста. Следствием этого фактора является его повышенная потенциальная ин-терпретативность.
Список литературы Многозначность художественного текста как нарушение "горизонта ожидания"
- Барт Р. Семиология как приключение // Мировое древо. Arbor Mundi. 1993. № 2. С. 78-87.
- Барт Р. S/Z. М.: Академический Проект, 2009. 373 с.
- Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. 612 с.
- Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 366 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
- Миловидов В.А. Семантика текста и семантика произведения: "множественность" потенциальная и реализованная [Электронный ресурс] // WWW.TELENIR.NET. Техническая и гуманитарная литература. URL: http://www.telenir.net/literaturovedenie/literaturnyi_tekst_problemy_i_ metody_issledovanija_iv_sbornik_nauchnyh_trudov/p2.php (дата обращения: 24.02.2021)
- Миловидов В.А. Семиотика литературно-художественного дискурса: монография. М.: Буки Веди, 2016. 172 с.
- Степанов А.Д. Проблема "аграмматизма" в поэзии и прозе // Интертекстуальный анализ: принципы и границы. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2018. С. 11-25.
- Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 217 с.
- Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34-84.