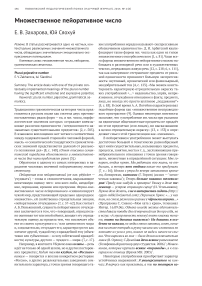Множественное пейоративное число
Автор: Захарова Елена Валерьевна, Юй Сяохуй
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (8), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одно из частных, контекстуально реализуемых значений множественного числа, обладающих значительным эмоционально-экспрессивным потенциалом.
Множественное число, пейоратив, грамматическая семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/14219406
IDR: 14219406
Текст научной статьи Множественное пейоративное число
Традиционно грамматическая категория числа представлена в русском языке как система двух противопоставленных рядов форм — ед. и мн. числа, морфологические значения которых «отражают внеязы-ковые различия единичности / неединичности называемых существительными предметов» [2, с. 585]. В языковом воплощении нет четкого соответствия между содержательной стороной и числовой формой, мысль «о семантической стандартности грамматических значений представляется далекой от реального положения дел» [8, с. 140]. ( Опыт описания семантической парадигмы единственного и множественного числа был нами представлен ранее [3].)
Обратимся к одному из самых интересных в парадигме числовых значений пейоративному множественному .
Пейоратив или пейоративный (от лат. pējōrāre — ‘ухудшать’) – слова и словосочетания, выражающие негативную оценку чего- или кого-либо, неодобрение, порицание, иронию или презрение. Форма множественного числа пейоративного «символизирует чужой мир, представляющий предельно однородное множество», ей свойственна отрицательная эмоция, «пейоративное отчуждение» [7, с. 57–62]. Как считает А. Б. Пеньковский, сущность пейоративного отчуждения заключается в том, что «говорящий, отрицательно оценивая тот или иной объект, доводит эту отрицательную оценку до предела тем, что исключает объект из своего культурного и / или ценностного мира и, следовательно, отчуждает его, характеризуя его как элемент другой, чуждой ему и враждебной ему (объективно или субъективно — в силу собственной враждебности) культуры, другого — чуждого — мира» [7, с. 17].
Например, в контексте Уберите ваши шляпы — речь идёт не только об одной шляпе, но и других посторонних предметах; Ходит там по клубам, по «Россиям» всяким — говорится о вполне конкретном ресторане «Россия», о других развлекательных заведениях сомнительного характера, с точки зрения говорящего та- кие употребления нередко называют «экспрессивным обозначением единичности». Д. И. Арбатский квалифицирует такие формы мн. числа как один из типов множественного гиперболического [1, с. 81]. Чаще всего формы множественного пейоративного можно наблюдать в разговорной речи или в художественных текстах, передающих живую речь [12, с. 218; 6, с. 111], так как намеренное отстранение предмета от реальной единичности привносит большую экспрессивность: шутливый, иронический или фамильярный, неодобрительный тон [4, с. 123]. «Мы можем констатировать характерную отрицательную окраску таких употреблений <...> недовольство, упрёк, неприязненное, отчуждённое отношение к факту, предмету, лицу, но иногда это просто шутливое „поддевание“» [5, с. 85]. В своё время А. А. Потебня охарактеризовал подобные формы как «множественное несправедливого пристрастия» [9]. Однако некоторые лингвисты полагают, что «употребление мн. числа при указании на единичные общеизвестные предметы не придаёт ни этим предметам (или лицам), ни высказыванию в целом отрицательную окраску» [13, с. 153] и определяют смысл этой транспозиции как «снижение».
В пейоративном употреблении может выступать достаточно большой и тематически разнообразный круг имён существительных, называющих предметы, процессы, занятия, места и т. д., заслуживающие пренебрежительного отношения с точки зрения говорящего, неуместные в определённой ситуации: Мне говорит, отдых нужен. Мы работали всю жизнь, не отдыхали, а теперь вот отдыхи какие-то придумали [7¸ с.: 16]; Нельзя с утра до вечера заниматься кранами, батареями, химиями (Г. Горин) ( химия — ‘химическая завивка’); Теперь больше никаких телевизоров ! Приду как-нибудь и проверю! Увижу в доме телевизор — устрою страшную сцену! (И. Угольников); Нужно дело делать, а не в интернетах сидеть (http:// cygan-mikki.livejournal.com) ; Персонаж Хрюн: «... у них там, на столе разносолы разные с чёрными икрами ...» (Программа С. Сивохо «Моя хата з краю», телеканал Интер. 16.09.06); Однако иногда мелкие обстоятельства давали поводы для её ворчаний как бы про себя, но и вслух: «А мусор вынести некому! опять книжки читает, опять на диванах валяется !» На диванах я особенно не валялся , не любил этого занятия, а вот, оставив на столе тетрадь и ручку часами мог слоняться по комнате из угла в угол, никого не видя и ничего не слыша. Что варилось во мне — было делом исключительно моим (В. Орлов); С Димой на дачи всякие разъезжаете (Телефонный разговор двух студенток. 2006) * ; Мошенников, которые крутили всякие «пирамиды» , я к олигархам не отношу (Время МН. 2003) * .
Некоторые употребления приобретают характер устойчивых выражений: Я университетов не кончал; Я верчусь как проклятая, а ты по театрам хо- дишь; Муж работает, а она по заграницам разъезжает [7. с. 16].
Объяснение внутреннего механизма «пейоративного отчуждения» и особенностей его языкового отражения следует искать в специфике структуры «своего» и «чужого» мира. «Свой» мир — это «мир уникальных, определенных в своей конкретности и известных в своей определенности для субъекта сознания и речи дискретных объектов, называемых собственными именами» [7]. Это мир собственных имён, в нём нарицательные имена ведут себя как собственные; это «мир форм единственного числа со значением единичности» [7]. «Чужой мир» неподвижный, статичный и плоский; в нём нет дискретных объектов, потому он воспринимается нерасчлененно. «Чужие предметы и предметно воспринимаемые живые существа образуют единую в своей кишащей слитности враждебную массу, состоящую из кажущихся абсолютно тождественным единиц, носителей одного имени. Индивид поэтому оказывается здесь представителем однородного ряда, из которого он актуально выделяется в силу занимаемого им положения — правителя, предводителя войска <...> Взятый в синхронии, этот ряд выступает как толпа. Взятый в диахронии, он представляет генеалогическую линию как родовую бесконечность, подобную родовой бесконечности насекомых и диких животных» [7]. Таким образом, «чужой» мир — мир форм мн. числа со значением однородного множества и мир нарицательных имён, в котором и собственные имена функционируют как нарицательные.
В качестве примера, иллюстрирующего сущность «пейоративного отчуждения», А. Б. Пеньковский приводит случаи типа Батыга — батыги, Ньютон — Ньютоны. Былинный Батыга — предводитель татарской рати, его прообразом явился хан Батый, положивший начало татаро-монгольскому игу. Его тюркское имя Bѓtі, восходящее к монгольскому batі, уйгурскому batuk ‘сильный, крепкий’, в русской фольклорной традиции фигурирует как Батыга: А й на ту пору на другой день // Приехал Батыга тут неверной царь, // Со своим сыном Батыгою Батыгичем <...> У Батыги было силы сорок тысящей // И у сына его сорок тыся-щи (Онежские былины. 3-е изд., т. 2, № 181). В народной традиции сын Батыги получает имя не династическое, но определяющее его сущность, — он один из бесчисленной череды батыг [7, с. 18–19]. Батыги поганые — ‘вражеские полчища кочевников’, ‘толпы бесчисленных батыг’. Например: А с какой позиции описывать штурм Рязани? То ли восторгаться отважными русичами, с криком «Веди нас, батя!» — лезущими на частокол, то ли другими отважными русичами, с криком «Батыги поганые!» — дубасящими тех отважных по шеломам (В. Мясников. Историческая беллетристика: спрос и предложение // Новый мир, № 4. 2002). Примерами могут быть старорусское люторы (по имени Мартина Лютера, основателя лютеранской церкви) — ‘те, кто исповедует богомерзкую лютор-скую ересь’, ‘иноземцы’, ‘неправославные христиане’, и Махаметы (от имени Магомета — основателя ислама) — ‘магометане’, ‘иноверцы’. Например: Что ж это вы делаете, аспиды вы, идолы вы, махаметы проклятые (А. Левитов).
Множественное пейоративное часто встречается у имён собственных [4; 7]. Возможно выделение некоторых устойчивых типов.
Так, в основу одного из них может быть положен этнический признак, например: Бухманы в нашей местности не водятся (Д. Рубина); И рабочим бабаевской фабрики, и житомирским мордехаям (А. Градский); Но выжить в климате, в котором // Всё манит сдохнуть; где кругом — // Сайгаки, юрты, каракурты, // Чуреки, чуньки, чубуки, // Солончаки, чингиз-манкурты, // Бондарчуки , корнейчуки , // Покрышки, мусорные кучи, // Избыток слов на че- и чу- (Д. Быков); В Москве — Иванов, в Херсоне — Сидоренко, а заглянешь в душу — все шнейерсоны ! (В. Шендерович).
В основе типизации могут быть характерные черты какого-либо известного, как правило, отрицательного персонажа; положительные персонажи в форме множественного пейоративного упоминаются в иронически окрашенном контексте. Например: Рачительность севастопольских партийных плюшкиных вызывала сложные чувства (Т. Толстая); И вписался Руст искустно в ложе площади прокрустово // Да, что нам Русты и прокрусты и прохвосты всех мастей (А. Градский); Всякие там кухарки , управляющие государством? (Хулиган. 2004); Вы — единственный папа Карло // Над мильёнами Буратин (Л. Филатов); Впрочем, окаянные святополки возникали у нас прежде нагаек и кривых сабель (В. Орлов); Кошки, все как одна елены прекрасные своего племени, спокойно вылизывались (Л. Петрушевская); Хоть давным-давно погиб поэт великий, / Но жива княгиня Марья Алексевна, До сих пор Молчалины безлики / Часто побеждают Чацких гневных (А. Розенбаум).
Близким ему является тип, в основе которого — род деятельности какой-либо публичной персоны (по сути, тот же персонаж): Помню играли с незолотой молодежью, откуда потом повылезали и гарики и батруддиновы ( http://cygan-mikki.livejournal.com ); Пусть бальзаки роются в авизовках, нам это запад-ло (Т. Толстая); А у них — какие-нибудь там Ротару и Кобзоны (В. Ерофеев); Скажем, какие-нибудь Пушкины — Толстые — Пелевины семью потами исходят, бачки и бороды нещадно чешут <...> в родах чего-нибудь исторически ценного, а тут приходят два залихватских бородача в панамках, и прямо им фолиантом — тюк! (Хулиган. 2004); Шахраи , паины , Гайдары , яковлевы ( оба ), коротичи , волкогоновы , черниченки , бакатины . Имя им — «тьма тьмы» (Наш современник. 2004); Сплошной косяк Кассилей , Михалковых (Наш современник. 2004); Поверим опыту гения: встречаются среди людей Наполеоны , не командовавшие ротой, Пушкины , не ведавшие рифм (А. Арьев) .
По замечанию М. Эпштейна, в принципе, «любое имя собственное может быть превращено в обобщающий термин, если оно обозначает какую-то черту, которая в данном индивиде выражена сильнее, чем в других, и, значит, может называться его именем» [15].
В основе типизации могут быть названия марок/ брендов в самом широком смысле слова — это и ма- териальные объекты и продукты масс-медиа, обладающие определёнными качествами, о которых сложилось мнение: Честно скажем: его чувство юмора, его присказки, комментарии с казачьей «перчинкой» так хороши, что всякие там «Аншлаги» и «Смехопано-рамы» просто отдыхают! (Приазовский край. 2004)*; И ленинграды, и всякие ляписы произросли, в принципе, из одного корня: старые шлягеры, легкий лати-но-дэнс, эстрада (советская, и не только) да дворовые песни (Хулиган. 2004)* — группы «Ленинград», «Ляпис Трубецкой» и ‘другие популярные группы, исполняющие подобную музыку музыку’.
Как видим, формы множественного пейоративного необычайно разнообразны и продуктивны. Как правило, они появляются в том случае, если необходимо выразить или продемонстрировать негативное отношение. Ср. у И. И. Ревзина: «Существительное во мн. числе — при условии снятия противопоставления множественности/единичности — обозначает неопределённость <...> Это особенно ярко проявляется в распространённом сейчас журналистском приёме, состоящем в том, что о личности, которую хотят унизить, говорят во мн. числе» [10, с. 107]. При этом, как правило, соответствующая фамилия пишется со строчной буквы. Наблюдение, сделанное не одно десятилетие назад, актуально и в настоящее время. «Может, дело в том, что негативные эмоции принципиально сильнее?.. позитив почти не вызывает интереса. Зато любой негатив провоцирует и цепляет за живое» (С. Довлатов). Отрицательные смыслы отражают отклонение от нормы, информативно они более значимы и поэтому бывают более четко выражены.
Не следует смешивать подобные употребления с выше названными генерическими типа Ньютоны, Платоны, Невтоны .
Семантическая наполненность множественного числа заключается в связи множественности с чувственным восприятием мира; так за формой мн. чис ла существительных стоит «инстанция качества и состояния, значение реальной воплощёности» [14, с. 60], «форма множественного числа заставляет мыслить об объектах в контексте их реального существования» [10, с. 70, с. 73]. Наличие в современном русском литературном языке особых употреблений форм числа свидетельствует о богатстве и сложности семантической системы русского языка.
Список литературы Множественное пейоративное число
- Арбатский Д. И. Множественное число гиперболическое//Русский язык в школе. 1972. № 5. С. 91-96.
- Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972. -614 с.
- Захарова Е. В., Юй Сяохуй. Из опыта построения семантической парадигмы категории числа русского существительного//Поволжский педагогический поиск (В печати).
- Исаченко А. В. О грамматическом значении//Вопросы языкознания. 1961. № 1. С.25-32.
- Красильникова Е. В. Имя существительное в русской разговорной речи. Функциональный аспект. М.: Наука, 1990. 128 с.
- Красильникова Е. В. Некоторые проблемы изучения морфологии разговорной речи//Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 1983. С. 107-120.
- Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. 464 с.
- Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: Изд-во МГУ, 2000. 383 с.
- Потебня А. А. Значение множественного числа в русском языке//Филологические записки. 1887, вып. II, V, VI.
- Ревзина О. Г. Категория числа в поэтическом языке//Актуальные проблемы русской морфологии. М.: Наука, 1988.
- Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М.: Высшая школа, 1976. 352 с.
- Санников В. З. О семантике категорий лица и числа (по данным языковой игры)//Традиционное и новое в русской грамматике: Сб. ст. памяти В. А. Белошапковой/Сост.: Т. В. Белошапкова, Т. В. Шмелёва. М., 2001. 141-154.
- Соболева П. А. Лексикализация множественного числа и словообразование//Лингвистика и поэтика. М., 1979. С. 47-85.
- Эпштейн М. Н. Дар слова. Проективный лексикон //Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна. URL:http://www.emory.edu/INTELNET/virt_ bibl.html (дата обращения: 30.08.08).