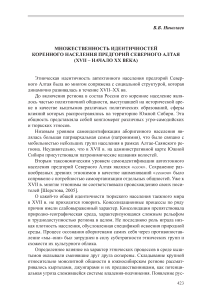Множественность идентичностей коренного населения предгорий Северного Алтая (XVII - начало XX века)
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521669
IDR: 14521669
Текст статьи Множественность идентичностей коренного населения предгорий Северного Алтая (XVII - начало XX века)
Этническая идентичность автохтонного населения предгорий Северного Алтая была во многом сопряжена с социальной структурой, которая динамично развивалась в течение XVII–ХХ вв.
До включения региона в состав России его коренное население являлось частью полиэтничной общности, выступавшей на исторической арене в качестве кыштымов различных политических образований, сферы влияний которых распространялись на территорию Южной Сибири. Эта общность представляла собой конгломерат различных угро-самодийских и тюркских этносов.
Низовым уровнем самоидентификации аборигенного населения являлась большая патриархальная семья (патронимия), что было связано с мобильностью небольших групп населения в рамках Алтае-Саянского региона. Неудивительно, что в XVII в. на административной карте Южной Сибири присутствовали патронимические названия волостей.
Вторым таксономическим уровнем самоидентификации автохтонного населения предгорий Северного Алтая являлся « сеок ». Сохранение разнообразных древних этнонимов в качестве наименований « сеоков » было сопряжено с потребностью самоорганизации отдельных общностей. Уже к XVII в. многие этнонимы не соответствовали происхождению своих носителей [Шерстова, 2005].
О какой-то общей идентичности тюркского населения таежного мира в XVII в. не приходится говорить. Консолидационные процессы по ряду причин имели слабовыраженный характер. Консолидации препятствовала природно-географическая среда, характеризующаяся сложным рельефом и труднодоступностью региона в целом. Не последнюю роль играла низкая плотность населения, обусловленная спецификой освоения природной среды. Процесс осознания аборигенами самих себя через противопоставление «мы–они» был затруднен в силу субстратности этнических групп и схожести их культурного облика.
Определенное влияние на характер этнических процессов в среде кыш-тымов оказывали сменявшие друг друга сюзерены. Складывание крупной относительно монолитной общности в южносибирском регионе рассматривалось кыргызами, джунгарами и их предшественниками, как потенциальная угроза сложившейся системе владения-подчинения. Появление рус- ских в Сибири первоначально не предвещало существенных изменений в положении коренного населения региона. Сменился сюзерен, но во многом сохранились сложившиеся к XVII в. формы отношений. Изменение этнополитической обстановки в Сибирском регионе в течение XVIII в. позволило российским властям приступить к реорганизации отношений между государством и подданными в регионе. Новые административные практики получили свое выражение в «Уставе об управлении инородцев» 1822 г.
Коренное населения Южной Сибири было разделено на волости (часто по родовому, этническому признаку) и включено на правах «инородцев», или «оседлых инородцев» в социальную стратификацию России. Часть аборигенного населения вошла в состав крестьянских (русских) волостей. Административно-территориальная политика России, направленная на выделение отдельных (этнических) общностей в рамках определенных территорий, спровоцировала консолидационные процессы. Их усиление было вызвано уплотнением автохтонного населения в процессе крестьянской колонизации Южной Сибири. В ходе расширяющихся межэтнических контактов разворачивались ассимиляционо-аккультурационными процессами, способствовавшие формированию противопоставления «мы-они» в религиозном, культурном и иных планах.
Вследствие этого в течение XVIII - XIX вв. происходило умножение и трансформация существующих идентичностей у аборигенного населения предгорий Северного Алтая.
Самый низкий таксономический уровень самоидентификации - патронимический – постепенно нивелировался. Аилы пополнялись пришлым населением и превращались в улусы; шло преобразование аильной общины в территориальную. Одновременно в ходе механического прироста населения происходила трансформация « кровнородственного сеока» в «сеок-волость», или административный род.
Видимо, в XIX в. происходит закрепление самоназваний: «тадар-кижи», «тадарлар» (кумандинцы); «йыш-кижи» (тубалары); «куу-кижи» (челканцы). Со второй половины XIX в. исследователи обратились к дифференцированным описаниям коренного населения предгорий Северного Алтая. Так, В.И. Вербицкий разделил алтайцев на северных и южных, ссылаясь на различия хозяйственных занятий, культур и языков и т.д [1993]. В.В. Радлов писал уже о конкретных этносах: кумандинцах, черневых и лебединских татарах [1989].
Аналогичные этнонимы можно встретить в документах Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела РГО начала XX в. По данным неизвестного исследователя коренное население Верхне- и Нижне-Кумандинских волостей именует себя «татарами и кумандинцами», отделяя от черневых татар и алтайцев по языку (ЦХАФ АК. Ф. 81. Оп. 1. Д. 43. Л. 10об.).
Изначально данные этнонимы восходят к обобщенному названию тюркоязычных народов Российской империи - татары. Широта данного термина обусловила появление словосочетаний в виде географического, или административного уточнения: «бийские татары», «черневые татары» и т.д. Официальная легитимность этнонима «татары» в государственных документах и на бытовом уровне обусловила его распространение среди автохтонного населения предгорий Северного Алтая.
Другим квазиэтнонимом стал социальный таксон «инородцы». Его официальное утверждение, связанное с принятием «Устава об управлении инородцев», обусловило формирование сословного («инородческого») самосознания. Его актуализация, наравне с этническим самосознанием сказалось на характере этносоциальных процессов в предгорьях Северного Алтая и в целом в Сибири. Кодификации этого квазиэтнонима способствовали практики христианизации региона, особенно активно развернувшиеся во второй половине ХIХ в.
В начале ХХ в. государство активизировало свои действия в отношении уравнения сословных прав «инородцев» и «крестьян». Государство ориентировалось на создание единого податного сословия. «Устав об управлении инородцев» хотя и не был отменен, фактически игнорировался при проведении земельной реформы 1912–1914 гг. В 1916 г. было аннулировано последнее право на освобождение от воинской повинности и аборигенное население было мобилизовано на тыловые работы. Политические события февраля 1917 г. окончательно стерли сословные границы. Но к этому времени особый социальный статус стал частью менталитета аборигенов. Уравнивание в правах с крестьянами, рассматривалось ими как утрата гарантированных государством прав [Славнин, Шерстова, 2008].
Несмотря на социально-политические изменения первой половины ХХ в., память коренного населения предгорий Северного Алтая сохраняла данный квазиэтноним, в том числе и как свидетельство былых преференций. В похозяйственных книгах некоторых сельских советов в границах предгорий Северного Алтая (например, Сузопский с/с) вплоть до 1940-х гг. в графе национальность часто указывалось – «инородец».
Многоуровневый характер этнического самосознания коренного населения региона отразился в материалах сельскохозяйственной переписи 1917 г. В ходе учета населения переписчики регистрировали сословную и национальную принадлежность главы семьи со слов респондента. Если с сословной идентичностью аборигены определялись четко: «инородец» или «крестьянин» (иногда в графе сословие фиксировалась национальность, что можно связать с невнимательностью корреспондента), то следующая графа предлагает весь спектр этнонимов Алтая: «алтаец», «кумандинец», «инородец», «татарин», «верхний или нижний кумандинец», «кузен» и т.д. Как видно приведенные наименования относятся к разным таксономическим уровням идентичности этнических групп предгорий Северного Алтая.
На основе имеющихся сведений можно реконструировать ареалы распространения тех или иных этнонимов. Так, в Тайнинской и Троицкой волостях все автохтонное население назвалось «татарами», как и в соседней Нижне-Кумандинской волости, где проживали «кумандинцы» (только в а. и с. Пильно), реже «теленгиты» и «алтайцы». В Урунской волости распространены были этнонимы «алтайцы», инородцы» и «татары». Количество последних преобладало. В Сузопской, Озеро-Куреевской и Паспаульской волостях превалировали «алтайцы», а также «кумандин-цы» (в Озеро-Куреевской также «верхне- и нижне-кумандинский»), «татары» (только а. Тебенда Сузопской волости), «инородцы» (Паспаульская волость). В Верхне-Бийской волости помимо «алтайцев» фигурировали «калмыки», «теленгиты», «кумандинцы». Наиболее «полиэтничной» была Лебедская волость: «алтайцы», «верхне-кумандинские инородцы», «комляш», «кузены», «кузнецкие татары», «кумандинцы», «теленгиты», «тиргеш», «чалганы», «чалканцы», «шелканские инородцы» (ЦХАФ АК. Ф. 233. Оп. 1, 1а, 1б, 5).
Таким образом, для разных групп аборигенного населения был актуален тот или иной уровень идентичности. В аборигенных поселениях Северного Алтая сохраняло устойчивость родовое и этническое самосознание, а в поселениях с этнически смешанным населением на первый план выходили квазиэтнонимы: «инородец», «татарин». Усложнение самосознания происходило в условиях активизации этносоциальных, в том числе миграционных процессов в регионе. Многоуровневый характер идентичности указывал на сложность и незавершенность процессов консолидации коренного населения предгорий Северного Алтая в начале ХХ в.