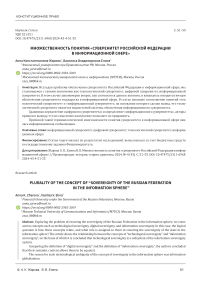Множественность понятия "суверенитет Российской Федерации в информационной сфере"
Автор: Жарова А.К., Елина В.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Конституционное право
Статья в выпуске: 4 (43), 2024 года.
Бесплатный доступ
Исследуя проблему обеспечения суверенитета Российской Федерации в информационной сфере, мы сталкиваемся с такими понятиями как технологический суверенитет, цифровой суверенитет, информационный суверенитет. В этом случае закономерен вопрос, как соотносятся данные понятия, и какая роль отводится им при обеспечении суверенитета государства в информационной сфере. В статье показано соотношение понятий «технологический суверенитет» и «информационный суверенитет», на основании которого сделан вывод, что технологический суверенитет является подсистемой системы обеспечения информационного суверенитета. Сравнивая определение «цифрового суверенитета» и определение «информационного суверенитета», авторы пришли к выводу, что их смысловое наполнение позволяет их приравнять. Причиной такой терминологической многозначности понятия суверенитета в информационной сфере явилась информационная глобализация.
Информационный суверенитет, цифровой суверенитет, технологический суверенитет, информационная сфера
Короткий адрес: https://sciup.org/14132353
IDR: 14132353 | УДК: 321.011 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-43-4-51-55
Текст научной статьи Множественность понятия "суверенитет Российской Федерации в информационной сфере"
Существование государства и его независимость связаны с наличием у него суверенитета, что является основным принципом международного права [8, с․ 46–48], который позволяет государству быть равноправным партнером в международных отношениях․ Суверенитет выражается в полной юридической власти государства над своей территорией и населением [12, с․ 494–497]․
Однако развитие различных информационных технологий — средств связи, технологий для информационных коммуникаций привели к информационной глобализации, последствиями которой стали информационные отношения «без границ» [5, с․ 48–54]․ Появились зарубежные монополисты в ИТ сфере, информационные технологии которых разработаны на основе их ИТ стандартов, в том числе основанных на своих правилах обеспечения информационной безопасности и взаимодействия пользователей․ Н․ Комлев считает, что ИТ-рынок в России начал формироваться в постсоветский период, и в то время у нас было огромное количество отечественных разработок [3, с․ 28–32]․ Но в начале 2000-х пришли мировые вендоры с отлаженными биз-нес-технологиями, и за 2006–2014 гг․ они создали свои сбытовые сети, открыли центры компетенций и захватили большинство сегментов российского рынка 1 ․
В условиях информационной глобализации и информационно-технологической взаимозависимости государств возникла потребность переосмысления реализации государством своего суверенитета в информационной сфере [2, с․ 166–172; 7, с․ 69–73; 9, с․ 187–200]․ Несмотря на то, что проблемой обеспечения суверенитета в информационной сфере научные сообщества занимаются достаточно давно, она остается нерешенной и до сегодняшнего дня [1, с․ 76–91; 11, с․ 27–33]․
В области обеспечения суверенитета в информационной сфере в нормативных правовых актах термин «суверенитет» используется в нескольких вариантах․ Так, мы можем встретить следующие термины: информационный суверенитет [4, с․ 41–45], технологический суверенитет, цифровой суверенитет [10, с․ 169–172]․ Такое разнообразие терминов делает возможным следующий вывод — информационная глобализация сделала термин «суверенитет» терминологически многозначным, поскольку возникли несколько взаимосвязанных терминологических значений, которые характеризуются общностью․
Попробуем проследить динамику развития каждого понятия, определяемого перечисленными терминами․
Информационный суверенитет
Наиболее ранним правовым документом, который нам удалось найти, и в котором определено понятие информационного суверенитета, была Концепция развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации в 1996 г․2 В нем информационный суверенитет определен как «формирование и проведение политики исходя из интересов национальной безопасности России…»․ В Постановлении № 41-13 Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ информационный суверенитет государств — участников СНГ определен как «способность и возможность самостоятельно осуществлять функции государства в информационной сфере с целью соблюдения прав и свобод граждан, обеспечения национальной и коллективной безопасности» 3 ․
Таким образом, мы можем заключить, что информационный суверенитет определяет возможность какого-либо государства самостоятельно осуществлять свои функции в информационной сфере․
Технологический суверенитет
С определенной долей условности можем сказать, что наиболее ранним актом, в котором определена необходимость обеспечения технологического суверенитета в целях развития цифровой экономики в государстве, является Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию» 4 ․ Этот правовой акт действует и по сей день․
Рассмотрим динамику понятия «технологического суверенитета» на примере Указа Президента РФ от 14 июня 2018 г․ № 334 в редакции от 16 сентября
2024 г․ (далее — Указ № 334) 1 ․ Так, в п․ «б» Указа № 334 от 2018 г․ область подготавливаемых предложений Президенту Российской Федерации касалась «развития цифровой инфраструктуры и применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении, а также участия по поручению Президента Российской Федерации в реализации указанных предложений»․ В Указе № 334 изменения, сделанные в п․ «б» в 2023 г․, в предложения Президенту Российской Федерации были включены вопросы обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности․ Так п․ «б» уже звучит как вопросы «касающиеся развития цифровой инфраструктуры и применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении, обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности, а также участие по поручению Президента Российской Федерации в реализации указанных предложений»2․
Изменения, внесенные в п․ «б» Указа № 334, сделанные в 2023 г․, позволяют сделать вывод, что вопросы обеспечения технологического суверенитета встали перед государством с особой остротой в целях обеспечения его суверенитета, и были взяты под контроль Президентом Российской Федерации в 2023 г․
Этот вывод можно подтвердить тем, что давление информационных монополистов, имеющих тесную связь с недружественными государствами к Российской Федерации, началось как минимум лет десять назад․ Например, против производителя микроэлектроники «Ангстрем» в 2024 г․ вновь были введены санкции на фоне обострения геополитических напряжений между Россией и Западом․ Это не первый случай, когда компания и её дочерние предприятия оказываются под санкционным давлением — они были внесены в списки ограничений ещё в 2016 г 3 ․ С количеством и разнообразием введенных и вводимых ИТ санкций против Российской Федерации можно познакомиться на сайте tadviser 4 ․
Хотя еще в 2015 г․ методом обеспечения технологического суверенитета5 было выбрано установление
«запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 6 ․
В постановлении Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Информационное общество“» (в редакции 2024 г․) 7 подчеркивалось, что в 2022 г․ ключевым этапом в технологическом развитии страны стало внимание к укреплению технологического суверенитета Российской Федерации․ В рамках этого приоритета были реализованы комплексные меры поддержки российского сектора информационно-коммуникационных технологий и его ключевых сегментов, включая медиаиндустрию․ Продолжилась активная работа по динамичному развитию инфраструктуры связи и телекоммуникаций, обеспечению информационной безопасности, импортоза-мещению, а также развитию искусственного интеллекта и цифрового государственного управления․ Важным направлением также стал перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат и кадровое обеспечение сферы информационных технологий 8 ․
Однако, несмотря на то, что технологический суверенитет определяет возможность государства распространить свою волю на разработку отечественных информационных технологий, сетевых инфраструктур, обеспечение информационной безопасности, а также формирование цифрового государственного управления на базе отечественных информационных технологий, определение данному понятию было дано только в 2024 г․ Так, в Указе Президента РФ «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации» под технологическим суверенитетом Российской Федерации понимается «способность государства создавать и применять наукоемкие технологии, критически важные для обеспечения независимости и конкурентоспособности, и иметь возможность на их основе организовать производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) в стратегически значимых сферах деятельности общества и государства» (п․ «и»)9․
Итак, мы определились с такими понятиями, как информационный и технологический суверенитеты․
Если технологический суверенитет напрямую связан со способностью государства развивать отечественные информационные технологии, критически важные для обеспечения своей независимости и конкурентоспособности, а информационный суверенитет определяет возможность государства самостоятельно осуществлять функции в информационной сфере, то напрашивается вывод, о том, что технологический суверенитет является частью информационного суверенитета․
Подтверждает этот вывод, определение информационной сферы как «совокупности информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений» 1 ․
Отсюда следует следующий вывод, что информационный суверенитет невозможно обеспечить без реализации технологического суверенитета․
Именно по этой причине первыми санкциями, введенными против Российской Федерации, были именно ИТ санкции, направленные на то, чтобы лишить Россию возможности реализовывать суверенитет в информационной сфере, и поставить государство в зависимость от зарубежных ИТ монополистов и зарубежных ИТ разработчиков, тем самым ввести внешнее информационное управление․
Информационная сфера является стратегически важной для развития и функционирования государства, в связи с этим для противников она становится одной из главных точек нападения․ Так, в настоящее время политика западных государств «направлена на всемерное ослабление России, включая подрыв ее созидательной цивилизационной роли, силовых, экономических и технологических возможностей, ограничение ее суверенитета во внешней и внутренней политике, разрушение территориальной целостности»2․
Однако, несмотря на кажущуюся достаточность понятий, технологический суверенитет и информационный суверенитет, правовыми актами определено также требование обеспечения цифрового суверените-та․ В таком случае, что же понимается под цифровым суверенитетом?
Цифровой суверенитет государства
В Модельном законе о цифровой трансформации отраслей промышленности государств — участников СНГ под цифровым суверенитетом понимается «способность государства самостоятельно создавать и использовать в различных сферах деятельности собственные цифровые сети, программное обеспечение и цифровые технологии, которые являются критически важными для обеспечения благосостояния населения государства, его национальной безопасности и конкурентоспособности национальной экономики, а также возможность государства определять и проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику в цифровом пространстве» 3 ․
Сравнивая определение «цифрового суверенитета» и определение «информационного суверенитета», которое было дано в Указе Президента РФ «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации» и раскрыто в разделе о цифровом суверенитете данной статьи, мы пришли к выводу, что два сравниваемых понятия фактически идентичны с то лишь разницей, что в первом определении используется термин «цифровой»․
Заключение
Подводя итог проведенного анализа понятий «технологический суверенитет», «информационный суверенитет» и «цифровой суверенитет» мы можем сделать следующие выводы․ Технологический суверенитет обеспечивает возможность государства распространять свою волю на технологическую отрасль, определять принципы развития отечественных информационных технологий, закрепляя их в отечественных нормах технического регулирования․
Информационный суверенитет определяет возможность государства самостоятельно осуществлять функции в информационной сфере, часть которой состоит из информационных отношений, а часть из совокупности взаимодействующих различных информационных технологий, обеспечивающих возникновение и поддержание этих отношений, а также их нормативного регули-рования․ Отсюда следует, что технологический суверенитет является частью информационного суверенитета, и, информационный суверенитет невозможно обеспечить без обеспечения технологического суверенитета․
Что касается «цифрового суверенитета», то его правовое понимание близко к пониманию «информационного суверенитета», поскольку состоит из тех же самых важных структурных элементов обеспечения суверенитета․
Список литературы Множественность понятия "суверенитет Российской Федерации в информационной сфере"
- Бухарин В. В. Компоненты цифрового суверенитета Российской Федерации как техническая основа информационной безопасности // Вестник МГИМО Университета. 2016. № 6 (51). С. 76-91.
- ДубеньА. К. Технологический суверенитет как основа национальной безопасности Российской Федерации // Вопросы безопасности. 2023. № 4. С. 166-172. DOI: 10.25136/2409-7543.2023.4.69347
- ЖароваА. К. Классификаторы деструктивных воздействий в цифровом пространстве // Пробелы в российском законодательстве. 2024. Т. 17, № 6. С. 28-32. DOI: 10.33693/2072-3164-2024-17-6-028-032
- ЖароваА.К. Обеспечение суверенитета Российской Федерации в информационной сфере // Государственная власть и местное самоуправление. 2024. № 9. С. 41-45. DOI: 10.18572/1813-1247-2024-9-41-45
- Жарова А. К. Сущность и структура информационного противоборства // Государство и право. 2009. № 2. С. 48-54.
- КошкинР. П. Информационное общество и государственный (национальный) суверенитет // Стратегические приоритеты. 2017. № 2 (14). С. 9-25.
- Петроченков И. А. К вопросу о концепции цифрового суверенитета // Конституционное и муниципальное право. 2022. № 7. С. 69-73. DOI: 10.18572/1812-3767-2022-7-69-73
- Скурыдин В. А., Фомин Р. А. Информационный суверенитет как неотъемлемая часть национальной безопасности // Наука и образование: история и современность: сборник материалов 76 и 77 внутривузовских научно-практических конференций, посвященных 80-летию университета, Нижневартовск, 23-24 апреля 2024 года. Нижневартовск: Южно-уральский государственный университет (научно-исследовательский университет), 2024. С. 46-49.
- ТерентьеваЛ. В. Концепция суверенитета государства в условиях глобализационных и информационно-коммуникационных процессов // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 187-200. DOI: 10.17323/20728166.2017.1.187.200
- Троян Н. А. Правовое обеспечение цифрового суверенитета России: актуальные проблемы и перспективные направления // Право и государство: теория и практика. 2024. № 6 (234). С. 169-172. DOI: 10.47643/1815-1337_2024_6_169
- Фомин А. А. Информационный суверенитет как фактор обеспечения национальной безопасности // Современное право. 2021. № 4. С. 27-33. DOI: 10.25799/NI.2021.59.73.004
- Цифровые и природоподобные технологии: особенности регулирования правом / И. Р. Бегишев, А. К. Жарова, М. В. Залоило [и др.] // Journal of Digital Technologies and Law. 2024. Т. 2, № 3. С. 493-499. DOI: 10.21202/jdtl.2024.25