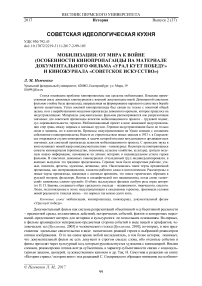Мобилизация: от мира к войне (особенности кинопропаганды на материале документального фильма "Урал кует победу" и киножурнала "Советское искусство")
Автор: Немченко Л.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советская идеологическая кухня
Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме кинопропаганды как средства мобилизации. Показана преемственная связь довоенных киножурналов с военной документалистикой. Доминантой советских фильмов о войне была пропаганда, направленная на формирование народного единства в борьбе против захватчиков. Успех военной кинопропаганды был связан не только с понятной общей целью, но и с выработанными моделями пропаганды довоенного времени, которое пришлось на индустриализацию. Материалы документальных фильмов рассматриваются как репрезентация значимых для советской пропаганды аспектов мобилизационного проекта - трудовой подвиг, дух соревновательности, героизм. Мобилизационный проект в виде довоенной индустриализации стер грань между мирным и военным трудом. Героями индустриализации были не только люди и машины, но и идеология. Процессы индустриализации на Урале совпали с созданием собственного кинопроизводства. Вместе со строительством новых заводов в 1933 г. в Свердловске открывается студия кинохроники, в задачи которой входили визуализация и архивация всех значимых для советской пропаганды аспектов мобилизационного проекта. С приходом звука в кино возникает новый жанр кинодокументалистики - киножурнал. Несмотря на повторяющиеся сюжеты киножурналов (производство, экономика, сельское хозяйство, культура), зрители получали новую информацию, основанную на личных историях и индивидуальном успехе героев фильмов. В советских довоенных киножурналах отчужденный труд индивидуализировался, в военных выпусках эта традиция продолжалась. Героями тыла были конкретные рабочие, ученые, писатели, артисты, мужчины, женщины, дети. Наследовались такие черты предвоенной пропаганды, как интернационализм, единство рабочего класа и интеллигенции. Рассмотрены и новые черты пропаганды, связанные с военным временем, это поиск героических образцов в русской истории, фольклоре. Возник и специфический тип национализма, когда слово «советский» заменялось словом «руский». В обоих исследуемых фильмах особую роль играл авторитет П. П. Бажова, создавшего образ уральского умельца - независимого, творческого, смелого. Люди, подготовленные в эпоху индустриализации к ежедневнму героизму, принимали условия новой реальности: тяжелая жизнь - это норма и так можно долго жить.
Мобилизация, кинопропаганда, киножурнал, документальный фильм "урал кует победу"
Короткий адрес: https://sciup.org/147203805
IDR: 147203805 | УДК: 930:792.43 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-2-99-105
Текст научной статьи Мобилизация: от мира к войне (особенности кинопропаганды на материале документального фильма "Урал кует победу" и киножурнала "Советское искусство")
сти работы с кинодокументами, в ходе которой исследователь должен помнить про «необходимость задавать вопросы о том, как и для чего отбирается/конструируется то, что нам привычно считать “фактом”, необходимость “считывать” идеологию различных кинематографических жанров, отдавать себе отчет и сопротивляться манипулированию ценностными конструкциями “исторического”» [ Самутина, 2014]. Там же Самутина ссылается на Пьера Сорлена, утверждавшего, что «задача историка заключается теперь не только в том, чтобы собирать неизвестные источники и делать их доступными для всех: вместо этого он должен научиться использовать материал, который уже широко известен» [Там же].
Документальный фильм «Урал кует победу», снятый в 1943 г., это продукт совместной работы Куйбышевской и Свердловской студий кинохроники (режиссеры В. Бойков и Ф. Киселев, Я. Бабушкин, операторы – Н. Степанов и О. Рейзман, дикторский текст – Л. Хмара). Картина представляет собой образец военного пропагандистского искусства, фильм выходит в момент коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и не оставляет у зрителя сомнений в победе. В этой картине демонстрировалось единство фронта и тыла, а герой тыла приравнивался к герою фронта. Кинолента «Урал кует победу» состояла из фрагментов выпусков киножурнала «Сталинский Урал». Поскольку из 242 военных выпусков «Сталинского Урала» на сегодняшний день не сохранилось ни одного, фильм может служить базой для реконструкции киножурнала. Эстетический и пропагандистский эффект фильма был связан и с опорой на сложившийся к началу войны канон киножурнала, и с обновлением пропагандистской риторики.
К концу 30-х гг. прошлого столетия кинематограф разработал собственные пропагандистские технологии, апробация которых проходила в хронике, программах «кинопоездов», агитпропфиль-ме. Военному времени предшествовала индустриализация, героями которой были не только люди и машины, но и идеология. С приходом в начале 30-х гг. в кино звука идеологическое содержание искусства получило возможность быть вербализованным, что повлекло за собой появление нового жанра кинематографа – киножурнала.
Процессы индустриализации на Урале, в свою очередь, совпали с созданием собственного кинопроизводства. Вместе со строительством новых заводов в 1933 г. в Свердловске открывается студия кинохроники, в задачи которой входила визуализация и архивация всех значимых для советской пропаганды аспектов мобилизационного проекта – демонстрации трудового подвига, передачи духа соревновательности, показа нового быта.
Киножурнал, выпускаемый на Свердловской студии кинохроники, носил название «Сталинский Урал». Подобные киножурналы выпускались в Ленинграде, Новосибирске, Красноярске и других регионах, но присвоение сакрального имени киножурналу показывает символическое значение Урала на карте индустриализации, не случайно эта карта войдет в качестве фрагмента в картину «Урал кует победу».
Все киножурналы (советские и западные, в частности, немецкий «Die Deutsche Wochenschau») имели одинаковую формальную структуру: сюжеты последовательно развивались от экономики к культуре. «Сталинские Уралы» 1952–1954 гг. (именно они сохранились в фильмо-фонде Свердловской киностудии) образцово иллюстрируют марксистское положение о диалектике базиса и надстройки. Структура киножурнала строго подчинялась первичности базисных сюжетов: производство, экономика, неразрывно связанные с политикой, сельское хозяйство, затем – культура. В этой части объединялись спорт, образование, искусство, досуг. Такая композиция киножурнала сохранялась неизменной, она воспроизводится и в логике повествования фильма «Урал кует победу».
Идеология киножурналов наглядно утверждала принципиальное отличие советского труда от труда капиталистического. Отсутствие отчуждения, проанализированного когда-то Марксом, доказывалось постоянными обращениями к конкретным людям, героям сюжетов о производстве, таким образом дефицит материальной жизни компенсировался приобретением символического капитала. Традиционно выходило 48 выпусков киножурнала в год, каждый зритель в обязательном порядке узнавал о передовиках производства, тружениках колхозов, технических открытиях, новостях культуры и т.п.
Логично, что именно труд был главной темой киножурналов, ибо сталинская модернизация (см. работы П. Блоккера, 2009, А. Вишневского, 1998, С. Гаврова, 2010, Д. Горина, 2010, О. Лейбовича, 1992, Н. Соколова, 2010, Э. Юнгера, 2000) касалась индустриализации, необходимого условия для создания мощного военно-промышленного комплекса. М. Меерович писал, что «индустриализация» – это создание милитаризированной экономики, главной цели внутренней политики [Меерович, 2014]. Мобилизация как система мер по оптимизации всех жизненно важных социальных процессов – от производства до досуга – стала основным рычагом осуществления модернизации. Как известно, «Советский Союз создал систему военно-мобилизационного управления, постоянно функционирующую уже в мирное время» [Меерович, 2014].
Ответственность за успешность мобилизационных процессов была возложена на государство и трудовой коллектив. Вот почему «власть с первых дней своего существования отрабатывает административно-политические формы принудительной соорганизации людей в трудобытовые коллективы, объединяя их не только за счет административных форм, но и в пространственном отношении» [ Хархордин , 2002, с. 161]. Субъект, а в отношении с властью он же и объект мобилизации – труженик, новый человек, обладающий новой природой, ибо «отличительной особенностью тоталитарных государств является не только мобилизация и политическое воспитание граждан, но и “трансформация человеческой природы”» [ Гюнтер , 2010].
Герой кинопропаганды – человек работающий, «работа» – это способ существования «нового человека», она не противоположна досугу, ибо и сознательно организованный досуг – тоже работа. Таким образом, «занятость и досуг, серьезность и веселье, будни и праздники не могут… быть здесь противоположностями, или же, по крайней мере, они являются противоположностями второго ранга, охватываемыми единым чувством жизни. Это, конечно же, предполагает, что слово "работа" вводится в высшую сферу, где оно не вступает в противоречие ни с ценностями героизма, ни с ценностями веры» [ Юнгер , 2000, с. 312]. Юнгеровское понимание работы близко к советскому пониманию нового социалистического труда, труда как потребности, труда свободного и необходимого, имеющего отношение не только к материальной сфере, но и к духовной. Евгений Добрен-ко заметил, что «советский труд мало связан с экономикой, но больше с моралью» [ Добренко , 2007]. Работы не может быть недостаточно, так как «работа это естественный элемент, встроенный в рабочий план; в ней не может быть недостатка, как не может быть недостатка воды в океане. [ Юнгер, 2000, с. 405].
Состояние мобилизации порождает действенность, которая характеризуется большой степенью вовлеченности субъекта в любой процесс или готовности перейти от намерений к действию с энтузиазмом. Энтузиазм – еще одно действующее лицо визуализации процессов индустриализации. Кантовские представления об энтузиазме («истинный энтузиазм всегда тяготеет к идеальному») [ Кант , 1994, 103], в которых с необходимостью возникает фигура дистанцированного от событий зрителя, парадоксальным образом становятся понятными при просмотре советской хроники. С экрана на зрителя смотрели люди, чьи физические возможности были безграничными. Так формировалось представление о социалистическом труде как возвышенном. Невообразимо тяжелый труд, как ни странно, вызывал чувство обольщения, объяснение обольщения энтузиазмом можно найти в трудах философов. К примеру, Джон Локк связывал энтузиазм с фантазиями, возникающими «из причудливых измышлений разгоряченного или самонадеянного ума» [ Локк , 1985, с. 179].
Горячечный дух соревнования присутствовал во всех сюжетах хроники: соревновались с природой, друг с другом, бригада с бригадой, район с районом, область с областью и т.д. Именно по такому принципу строится фильм «Магнитка» 1937 г., снятый режиссером Евсиковым на Свердловской студии кинохроники. Веками неизменная уральская природа, несоразмерная своим величием суетному человеку, рифмуется с несоразмерностью размаха стройки, новым темпорит-мом, в котором повседневности нет места. Мы присутствуем при творении новой природы, которая есть цель сама по себе.
Искусство вообще, а кинодокументалистика в частности тоже выполняли мобилизационные задачи. Советский документальный фильм/киножурнал демонстрировал все установки художественного социалистического канона, к примеру, корректировку реальности в соответствии с идеальными, проектными задачами. Именно этим объясняется постановочность многих сюжетов киножурналов, посвященных реальным событиям.
Разберем один из сюжетов киножурнала «Советское искусство» за 1943 г. Место действия – фойе Свердловского окружного Дома офицеров, где открылась выставка изобразительного искусства. Камера переходит от общих планов к крупным, на которых мы можем увидеть работы художников. Интересен тот факт, что тематика картин – принципиально мирная: в основном это ураль- ские пейзажи, несколько портретов и одна работа, посвященная военным событиям. На экране присутствуют не только картины, но и посетители выставки: военные в форме и штатские, пары молодых людей прогуливаются от картины к картине. Все девушки и женщины – в платьях, насколько можно разглядеть в черно-белом изображении, платьях с набивным рисунком, достаточно нарядных для военного времени. Бросаются в глаза прически женщин, над которыми явно поработал парикмахер. Таким образом, перед нами возникает абсолютно благостная картина военного времени, в которой нет места болезням, голоду, нищете, похоронкам. Такая оптика превращения военного, пусть и тылового времени, в мирное, выполняла важную пропагандистскую задачу по приятию предлагаемых обстоятельств. Этот сюжет вступает в противоречие с документальной прозой 2013 г., книгой «Непридуманные истории, подсказанные людской памятью: 30–40–50-е годы XX столетия в воспоминаниях детей, давно ставших взрослыми» [Непридуманные истории..., 2013], где жизнь Свердловска представлена иными сюжетами. С точки зрения социалистического реализма идеализация представала как «…возможность и необходимость подобного отражения событий в любых художественных произведениях, включая фотографию и кинематограф. Эта концепция открыто провозглашала, что художник должен не копировать мир, а создавать его. Более того, по мнению основоположников социалистического реализма, сотворенный таким образом мир должен был материализоваться и, отразившись в сознании зрителей, стать реальностью» [Назаров, 2002]. Таким образом, хроника, предполагающая передачу объективной информации, начинает функционировать по законам соцреализма, становится организатором строительства, взгляд художни-ка/режиссера оказывается «завороженным» взглядом не наблюдателя, а «участника…, не зрителя, а актера» [Круглова, 2013].
Рассмотрим фильм «Урал кует победу» с точки зрения репрезентации пропагандистских установок мобилизации. В отличие от довоенных киножурналов фильм лишен пафосных интонаций, дикторский голос транслирует спокойствие, стоицизм и уверенность в победе, хотя и нескорой. Создается впечатление, что война не вызывает ощущения катастрофы, возможно, это ощущение было купировано еще до войны, когда с середины 1930-х гг. советское общество воспитывали в духе романтического милитаризма , постоянно внушая населению неизбежность предстоящих войн и несомненность победы в них СССР в силу объективной природы советского социалистического строя.
Фильм «Урал кует победу» состоит из шести частей, первые – повествуют об истории Урала, географии, уральских промыслах и городах, о жизни до революции и после, буднях и праздниках, героях тыла. Знаки войны появляются постепенно: сначала во второй части в печь на переплавку попадает крыло немецкого самолета со свастикой, в третьей части мы становимся свидетелями погрузки орудий на фронт, в четвертой и пятой частях снаряды отправляются на фронт, проводится митинг, на котором подчеркивается единство фронта и тыла, и, наконец, в шестой части мы видим очень эффектные кадры, в которых снаряды, изготовленные на уральских заводах, вылетают из орудий, выплавленных тоже на уральских заводах, поражают противника, а авторский текст подчеркивает преемственность молодых и старых мастеров. Сила оружия обеспечена не только успехами индустриализации, но и опорой на дореволюционные традиции. Новым в подаче материала является обращение к прошлому как гаранту будущих побед. Если довоенная кинодокументалистика всегда была обращена в будущее, прошлое только выступало объектом критики и осмеяния, то фильм «Урал кует победу» продолжает традицию исторических лент, заложенную в игровом кино в конце 30-х гг. («Александр Невский», «Иван Грозный» С. Эйзенштейна, «Минин и Пожарский» В. Пудовкина и М. Доллера и др.). Культ великих предков на время начинает доминировать, однако обращение к ним все равно происходит после цитирования слов Сталина: «Урал представляет такую комбинацию богатств, которую нельзя найти не в одной стране». Цитата дана крупным планом, она занимает весь экран, свидетельствуя «о непосредственной репрезентации власти. Эта репрезентативная функция нигде не проявлялась столь полно, как в демонстрации вождя» [Добрен-ко, 1993, с. 74]. Авторитет Сталина подчеркивает особое положение Урала как опорного края державы. При этом характер повествования носит черты фольклорного начала, диктор не транслирует рационально взвешенные задачи, он будто рассказывает нам сказы об Урале. Монтаж цитаты со сказовыми интонациями вновь работает на сакрализацию фигуры вождя, которому принадлежит не только собственная мудрость, но и историческое знание. Риторика дикторского текста изобилует мифологическими характеристиками: вместо точных дат – слово «издавна», вместо точных размеров – «необъятные просторы».
Один из первых сюжетов фильма – успешная охота на медведя, которую можно прочитать как победу человека над природой. Главными героями сказов являются охотники манси, три сюжета из десятиминутной части связаны с образом жизни коренных народов, ставших строителями новой жизни. Постепенно от изображения природы повествование переходит к анализу второй природы, заводского Урала. Два города становятся объектами изображения – Невьянск и Златоуст. Если Невьянск представлен первыми печами, то Златоуст – уникальным оружием; история оружия вписывается в контекст истории России: уральские клинки шли на помощь Минину и Пожарскому, «уральские пушки били шведов под Полтавой», они грохотали на улицах Парижа и т.п. Итак, в первой части фильма ничего не говорится о войне, зритель должен быть преисполнен чувством гордости и избранничества, ибо этот край отмечен вождем и овеян исторической славой.
Вторая часть начинается с цитаты Ленина об Урале, нарушение хронологического порядка (в действительности высказывание Ленина предшествует сталинскому) указывает на иерархию пар-тийных/исторических авторитетов, на победу символического политического над историческим. Во второй части появляются города Свердловск и Челябинск, и первые персоналии – ученые и писатели. И те и другие всегда изображаются в окружении учеников, что свидетельствует о следовании традициям наставничества. Интерес представляет последовательность появления героев тыла: от ученых к рабочим, женщинам и детям. Такое изображение свидетельствует о довоенной пропагандистской установке, демонстрируя единство рабочего класса и технической интеллигенции, уважение к знанию. Итак, экран знакомит с металлургом Михаилом Александровичем Павловым, академиком Евгением Оскаровичем Патоном, писателем Павлом Петровичем Бажовым.
Павел Петрович Бажов в отличие от Патона, Павлова и других ученых до войны не был героем документального кино, обращение к нему во время съемок мобилизационного пропагандистского фильма – это тоже поиск опоры на авторитет. Павел Петрович Бажов – известный, а на Урале просто любимый писатель-сказочник, лауреат Сталинской премии, орденоносец, председатель свердловского отделения Союза писателей. Его герои – мастеровые люди, добытчики камня и камнерезы, люди, которые находятся в очень непростых отношениях с природой (Хозяйка медной горы, Данила-мастер, желающий сделать Каменный цветок). Именно Бажов ввел в обиход понятие Мастера, Мастер – это ответственный профессионал, а не только исполнитель. Герои Бажова – свободные мастеровые люди, герои тыла – тоже мастера, мастерство провозглашается как условие движения к победе.
Сказовая стилистика Бажова вновь присутствует в дикторском тексте: «В суровом тысяча девятьсот сорок первом году дали уральцы клятву». Рассказ о клятве уральцев разбить врага звучит во второй части как желание, в шестой – как неизбежный и желанный результат.
Герои трудовых подвигов всегда конкретны, это и коренные жители Урала, и эвакуированные рабочие разных национальностей, жители Свердловска, Нижнего Тагила, Челябинска, Перми, Невьянска, Златоуста, в авторском тексте всегда подчеркивается дружба народов. Однако наряду с традиционным довоенным интернационализмом в фильме появляется особый национализм, проявляющийся в замене понятия «советский народ/советский человек» на понятие «русский народ/русский человек».
Фильм «Урал кует победу», киножурнал «Советское искусство», в котором помимо выставки в окружном Доме офицеров были показаны фрагменты из спектакля театра драмы и кабинет Павла Петровича Бажова, работающего над циклом сказов о немцах, – образцы эффективной пропаганды, созданные с четко определенной целью и понятными задачами, при этом с опорой на традиции довоенной пропаганды эпохи индустриализации. Для исследователя они предсталяют интерес и как документ, и как имитация/ фальсификация документа одновременно.
Список литературы Мобилизация: от мира к войне (особенности кинопропаганды на материале документального фильма "Урал кует победу" и киножурнала "Советское искусство")
- Булгакова О. Советский слухоглаз: Кино и его органы чувств. М.: Новое лит. обозрение, 2010. 318 с
- Булгакова О. Фабрика жестов. М: Новое лит. обозрение, 2005. 304 с
- Гюнтер X. О красоте, которая не смогла спасти социализм//Новое лит. обозрение. 2010. №101. URL: http://magazines.rass.ra/nlo/2010/101/gu2.html (дата обращения: 09.10.2016)
- Добренко Е. Метафора власти: литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен: Verlag Otto Sagner, 1993. 410 с
- Добренко Е. Политэкномия соцреализма. М., 2007. URL: http://www.fedy-diary.ru/?p=3001 (дата обращения: 06.10.2016)
- Кант И. Спор факультетов//Кант И. Соч.: в 8 т. М: ЧОРО, 1994. Т. 7. 459 с
- Круглова Т. Отношения искусства и действительности в соцреализме//Художественные практики соцреализма как репрезентации советской повседневности. Екатеринбург, 2013. URL: http://media.ls.urfu.ru/493/1258/2725/2589/1221/(дата обращения: 28. 09. 2016)
- Локк Д. Опыт о человеческом разумении//Соч.: в 3 т. М: Мысль, 1985. Т. 2. 563 с.
- Меерович М. Тайные пружины советской индустриализации//Лабиринт. 2014. №1. URL: http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/05/meerovitch.pdf (дата обращения: 04.10.2016)
- Назаров А. Отражение «реальности» в советских хроникальных кинодокументах 1930-1940-х годов .//Неприкосновенный запас. 2002. №2(22). URL: http://magazines.rass.ru/nz/2002/22/nazar.html (дата обращения: 05.10.2016)
- Непридуманные истории, подсказанные людской памятью: 30-40-50-е годы XX столетия в воспоминаниях детей, давно ставших взрослыми/сост. И. Н. Демченко. -Екатеринбург: Изд. дом «Автограф», 2013.191с
- Самутина Н. История страны/история кино: Рец. на кн. под ред. докт. ист. наук С.С. Секиринского. М.: Знак, 2004//Критическая масса. 2004. №1
- Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб.: Изд-во Европейского университета в СПб., 2002. 511 с
- Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб.: Наука, 2000. 537 с