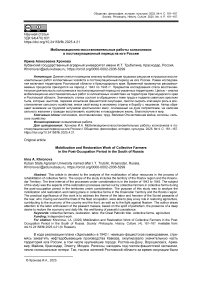Мобилизационно-восстановительные работы колхозников в постоккупационный период на юге России
Автор: Хронова И.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена анализу мобилизации трудовых ресурсов в процессе восстановительных работ коллективных хозяйств в постоккупационный период на юге России. Рамки исследования включают территорию Ростовской области и Краснодарского края. Временной промежуток рассматриваемых процессов приходится на период с 1943 по 1945 гг. Предметом исследования стала восстановительная деятельность колхозников в постоккупационный период на указанных территориях. Целью - анализ мобилизационно-восстановительных работ в коллективных хозяйствах на территории Краснодарского края и Ростовской области. Значимость статьи состоит в обращении к теме труда и подвига советских крестьян тыла, которые, выстояв, пережив испытания фашистской оккупации, смогли сыграть ключевую роль в восстановлении сельского хозяйства, внеся свой вклад в экономику страны и борьбу с нацизмом. Автор обращает внимание на трудовой энтузиазм крестьянских масс, основанный на духе патриотизма, на наличие сильного желания у граждан восстановить хозяйство и повседневную жизнь, благополучие и мир.
Колхозники, восстановление, труд, великая отечественная война, колхозы, сельское хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/149148134
IDR: 149148134 | УДК: 94(470):631 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.21
Текст научной статьи Мобилизационно-восстановительные работы колхозников в постоккупационный период на юге России
лишены домов: враг уничтожил «747 тыс. кв. м. жилой площади только в Ростове, и более 22 тыс. жилых домов – в селах»; кроме того, были утрачены «618 зданий культурно-просветительных… погиб почти весь книжный фонд»1. Удручающая картина была и в соседних областях. Численность сельского населения Краснодарского края за два года уменьшилась и к 1944 г. насчитывала 1 950 836 человек2, не лучше дело обстояло и с техникой: количество тракторов и комбайнов снизилось примерно на 14,4 и 23,7 % соответственно3.
Битва за Кавказ обеспечила освобождение занятых врагом территорий. Однако за время интервенции немцы активно занимались их адаптацией под военные нужды, привлекали к этому городских, сельских жителей, военнопленных, для которых данная работа иногда заканчивалась расстрелом. Некоторые дома, окраины сел, станиц, поселков были превращены в редуты, сельскохозяйственные поля были изрыты окопами и заминированы.
Жесточайшие удары были нанесены по советскому крестьянству, которое вынуждено было жить и работать под диктатурой захватчиков. Осуществляя угнетательскую эксплуатацию, немцы доводили людей до грани, цинично издеваясь, вынуждали «служить» высшей касте избранной нации.
Целью данного исследования стал анализ мобилизационно-восстановительных работ, происходящих в коллективных хозяйствах на территории Краснодарского края и Ростовской области в рассматриваемый период. Источниками работы преимущественно послужили материалы архивов Центра документации новейшей истории Краснодарского края, Центра документации новейшей истории Ростовской области, муниципальные архивы Ростовской области.
Рамки исследования охватывают территорию Ростовской области и Краснодарского края. Временной промежуток рассматриваемых процессов находится в границах 1943–1945 гг.
Научная значимость работы обусловлена введением в научный оборот рассекреченных архивных материалов по теме исследования.
Для анализа немецко-фашистских стратегий и задач, которые совершались либо планировались к осуществлению относительно граждан советской России и ее регионов, необходимо обратиться к ряду публикаций исследовательского и ретроспективного характера. Так, в работе В.И. Дашичева приводятся архивные выдержки высказываний А. Гитлера о завоевательных планах фашистской Германии, согласно которым «главная миссия этих народов – обслуживать нас экономически»4, или «Если русские, украинцы, киргизы и т. д. научатся читать и писать, то это нам может лишь повредить…»5.
Н. Мюллер освящает немецкую политику применения «выжженной земли» при отступлении, отмечая, что «опустошение целых областей … нередко представл[ось] как часть военной тактики, … составной частью всей политической стратегии германо-фашистского империализма по отношению к Советскому Союзу» (Мюллер, 1974: 289).
В дневнике А. Розенберга приводится запись беседы М. Антонеску и А. Гитлера, содержащей заявление фюрера: «Моя миссия, если мне удастся, – уничтожить славян»6.
Сказанное наглядно демонстрирует хищнический посыл нацисткой Германии, ее приспешников и сателлитов, которые рассматривали с потребительской точки зрения как русские территории, так и народ.
Работы И.С. Маркусенко (1977), В.А. Селюнина7 посвящены трудовым резервам промышленности и сельского хозяйства в деле восстановления экономики Ростовской области, а также помощи фронту в постоккупационный период.
Исследование С.А. Жевалова акцентирует внимание на поставках продуктов сельскохозяйственного производства, осуществляемых колхозами и совхозами Ростовской области в рассматриваемый период, подчеркивая особую «значимость вклада в Великую Победу тружеников сельского хозяйства» (Жевалов, 2020: 70).
В работах С.Г. Степаненко поднимаются вопросы, связанные с расследованиями причиненного ущерба экономики Краснодарского края в период оккупации (Степаненко, 2010 а), а также исследуется деятельность Чрезвычайной государственной комиссии Краснодарского края по установлению ущерба, причиненного во время оккупации (Степаненко, 2010 б).
Т.В. Лохова занималась изучением специфики послевоенного восстановления сельскохозяйственного потенциала Краснодарского края (Лохова, 2015). Аналогичная тема поднималась в монографии Ю.В. Арутюняна (1970).
В диссертационной работе Н.Г. Дубровской рассматривается деятельность центральных и местных органов власти, а также трудовых коллективов, занимавшихся восстановительными процессами народного хозяйства Ростовской области в период войны1.
Широкий массив изданных статистических, документальных материалов дает возможность объективно оценить события рассматриваемого периода2. В то же время необходимо отметить, что процессы восстановления сельского хозяйства Краснодарского края в рассматриваемый период не нашли еще должного отражения в современных исследованиях.
Анализ источников показывает, что события восстановительных работ, как и мобилизация трудовых ресурсов, в хозяйствах Краснодарского края и Ростовской области описаны преимущественно в советской историографии, при этом замалчивались проблемы голода, быта и трудоустройства. В то же время снятие грифа секретности с архивных материалов позволяет получить более детальную картину прошедших событий и взглянуть на них с новых точек зрения.
В ходе работы применялись следующие методы: анализа – для выделения ключевых мобилизационно-восстановительных работ, проводимых в сельском хозяйстве за рассматриваемый промежуток времени; хронологический – для отслеживания характерных изменений восстановительного периода в регионах; обобщения – для резюмирования размышлений и формулировки выводов.
Как свидетельствуют архивные документы, восстановительные работы в коллективных хозяйствах начинались буквально с первых часов бегства оккупантов. Постепенно в оставленные населенные пункты стягивались люди. 08 января 1943 г. Краевой комитет ВКП (б) издает секретное постановление «О проведении оперативных мероприятий в освобождаемых районах Краснодарского края от немецких оккупантов».
Что же касается Ростовской области, то первые шаги к налаживанию мирной жизни и организации труда стали осуществляться на основании Постановления объединенного заседания исполкома Ростовского облсовета депутатов трудящихся и бюро Ростовского областного комитета ВКП (б) от 05 января 1943 г.
Фактически обе территории одновременно начали работу по оценке нанесенного ущерба, восстановлению органов советской власти, мобилизации людей не только на реконструкцию, но и на обслуживание нужд и т. д. Уже к апрелю были получены статистические данные по нанесенному ущербу, общему состоянию производительности, численности жителей городов и районов, а по итогам 1943 г. были подготовлены сводные статистические показатели3.
Одной из ключевых задач было воссоздание партийного аппарата на местах. Необходимо было вовлечь в работу проверенные кадры из числа коммунистов подполья, представителей местных партизанских подразделений, а также использовать направляемых из других регионов членов партии. Будучи «закаленными в боях и хорошо знающими обстановку на местах» эти люди являлись опорой власти4. На их плечи ложилась не только организационная работа, но и идейно-массовая, в том числе в среде сельского населения. Так, освобожденный 27 января 1943 г. Гулькевичский район уже к 28 января имел сформированный штат Гулькевичского РК ВКП (б), 29 числа по району прошли митинги, были мобилизованы люди на «быстрейшее восстановление разрушенного общественного и государственного хозяйства, на сбор скота, имущества, зерна, взятого населением на хранение в колхозах, совхозах, предприятиях и организациях, организацию уборки и обмолота оставшихся культур…»5. Экстренно прошли выборы председателей и секретарей сельсоветов. Необходимо было «выдвигать на руководящую работу местных людей, проверенных в борьбе с немецкими ок-купантами»6, запрещалось оставлять учреждения, хозяйства без руководителей.
Активно формировались ревизионные и инвентаризационные комиссии с целью учета движимого и недвижимого имущества в колхозах, совхозах, предприятиях и других организациях. Постепенно, по мере освобождения территорий издавались и вступали в силу районные решения «О возврате трофейного и расхищенного имущества, принадлежащего колхозам, госучреждениям и гражданам, в период немецкой оккупации района», которые базировались на Постановлении Государственного комитета обороны от 16 января 1943 г. В частности, требовалось немедленно в течение трех дней сдать «имеющееся имущество, принадлежащее государственным и военным организациям, сельским советам»7, а также «зерно, муку, масличные культуры, скот, птицу, мебель, обмундирование и другое гражданское и военное имущество»1. За нарушение данного постановления была установлена уголовная ответственность по законам военного времени.
В целях восстановления сельского хозяйства было принято Постановление Совета Народных комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП (б) от 23 января 1943 г. «О мероприятиях по восстановлению МТС и колхозов в районах, освобождаемых от немецко-фашистских оккупантов». Результаты работы были настолько важны, что отчет по ее итогам необходимо было присылать через каждые пять дней. В связи с катастрофической нехваткой кадров требовалось в кратчайшие сроки подобрать «руководящие кадры, директоров МТС… развернуть подготовку механизаторских кадров, приступить к ремонту машин и помещений … принимать меры к восстановлению работы МТС»2.
Вообще трудовая мобилизация населения была достаточно частым явлением на протяжении всего периода восстановления сельского хозяйства. Следует отметить, что ей подлежали мужчины в возрасте 14–55 лет и женщины – 14–50 лет. Жители должны были привлекаться к восстановительным работам без ущерба для своей основной занятости, то есть в свободное время. Направляемых обязаны были обеспечить жильем и питанием в зависимости от характера работы, включали в уже существующие бригады или звенья. Оплата труда в совхозах и МТС осуществлялась на общих основаниях по нормам и расценкам работников этих организаций. Иная ситуация с оплатой была в коллективных хозяйствах, она реализовывалась по «действующим нормам выработки и расценок в трудоднях с оплатой заработанных трудодней деньгами и натурой наравне с колхозниками»3.
В помощь Краснодарскому краю из других регионов были мобилизованы: «3 800 трактористов, 575 комбайнеров, 585 бригадиров тракторных бригад, 105 механизаторов, 60 директоров МТС»4. В архивных документах присутствуют и другие цифры: «Прибывших трактористов в край [было:] 3 005, комбайнеров 204, бригадиров 241, механиков 116 и т. д.»5. Можно предположить, что подобные разночтения вызваны невозможностью четкой работы статистов, банальным отсутствием бумаг для записи и мобильностью масс.
Нельзя обойти вниманием и гендерные вопросы, особенно колоссальный дисбаланс в сельском хозяйстве между мужчинами и женщинами, а также между отдельными возрастными категориями. Например, В.Т. Анисков отмечает, что к «концу 1943 г. в колхозах осталось менее 1/ 3 трудоспособных мужчин» (Анисков, 1974: 193). По данным единовременного отчета о составе сельского населения Краснодарского края на 1 января 1944 г., в регионе насчитывалось женщин 1 204 446 человек, мужчин – 668 277, по возрастному срезу от 25 до 49 лет женщин насчитывалось 393 368 человек, а мужчин – 96 6776. В Ростовской области до оккупации проживало 2 828,4 тыс. чел., после – 1 617,7 тыс. чел. (Морозов, 2015: 42). В силу складывающегося гендерного несоответствия существенную помощь народному хозяйству стали оказывать в дни войны подростки и престарелые колхозники. Уже к 1943 г. удельный вес трудодней последних в процентах к общему количеству выработанных составлял от 7 до 10 %, а подростков – соответственно 9–11 % (Карнаухова, 1947: 18). Действительно, власть активно использовала в восстановлении страны молодежь, подростков и даже детей.
Как отмечают Н.Б. Акоева, М.В. Рогова, «привлекались дети не только на сезонные сельскохозяйственные работы, но и на разовые акции» (Акоева, Рогова, 2022: 20). Например, это были патриотическо-воспитательные мероприятия, связанные с празднованием 1 мая, Дня Урожая и т. д. Опять же, в период катастрофической нехватки трудовых резервов на полях учащиеся вынуждены были оказывать помощь взрослым. Так, в телеграмме СНК СССР о форсировании прополочных работ, поступившей в крайком ВКП(б) и крайисполком Краснодарского края 17 июня 1943 г., содержалось требование в срочном порядке привлечь к устранению сорняков «учащихся вузов, техникумов и школ … Обеспечить полное использование рабочего дня в колхозах и совхозах, чтобы работа действительно проходила от зари до зари с небольшими перерывами на завтрак и обед»7.
Подростки, пионеры и школьники выполняли целый ряд несложных работ. Согласно возрасту и полу детей объединяли в бригады; учителя, пионервожатые осуществляли руководство и определяли характер выполняемой ими работы. Надо отдать должное советской власти, которая в период тотального дефицита и нужды, в период длящихся военных действий, стремилась создать комфортные условия для несовершеннолетних, занять их быт и свободное время, сделать их проживание в полевых условиях комфортным и удобным.
Другим направлением восстановительных процессов было возрождение огромной отрасли – животноводства. Оккупация нанесла ей ощутимый урон, много было разграблено, похищено. Из докладной записки Ивановского районного комитета ВКП (б) следовало, что «рогатого скота осталось всего лишь 28 % от количества, бывшего в этих районах до немецкой оккупации. … свиней – 10,3 %. … птицы – 11 %, овец – 52 %»1.
Таким образом, выполняя указания Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП (б) по развитию животноводства, колхозы наращивали численность скота, осуществляли контрактацию у колхозников, побуждая их сдавать молодняк по установленным государственным ценам. И уже по истечении шести месяцев восстановления Краснодарского края после оккупации было организованно 1 500 молочно-товарных ферм, 1 020 свиноводческих, 1 230 овцеводческих, а на 1 августа 1943 г. на фермах было: «145 900 голов крупного рогатого скота, 76 900 голов свиней, 292 800 голов овец и коз, 75 900 голов лошадей» и т. д.2 В докладе по Мечетинскому району на 30 ноября – 1 декабря 1943 г. сообщалось, что было восстановлено: «32 молочно-товарные фермы с поголовьем в 5 858 голов и маточным составом 1 100 коров, 26 овцеводческих ферм с поголовьем 4 900 голов, 18 свинотоварных ферм в 1 128 голов, 31 птицеферма с 35 тысячами кур, 22 пчелофермы с 660 ульями» и т. д.3 В Цимлянском районе «укомплектовано по колхозам 19 молочно-товарных ферм с маточным составом 890 голов, конетоварных ферм – 2 с маточным составом 82 головы, овцетоварных ферм – 23 с маточным составом 2 389 голов, свинотоварных ферм – 2 с маточным составом 37 голов, птицеводческих ферм – 11 с наличием 1 812 голов птицы»4. Необходимо отметить, что за такой короткий срок, имея ограниченное количество человеческих ресурсов, советское крестьянство юга России проявило трудовой героизм – подняло из пепла хозяйство, которое буквально сразу стало снабжать армию продуктами, внося существенную лепту в экономку страны.
Помимо животноводства, важной и фактически ключевой отраслью сельского хозяйства было растениеводство, причем особую значимость имели зерновые культуры. Для осуществления запашки, прополки и сбора требовалась очистка полей. Отступая, немцы минировали поля, и, несмотря на то, что части Красной армии осуществляли разминирование, оттаявшая после зимы земля таила в себе большое количество снарядов. Но не только в этом заключались проблемы хлебопашцев. Как отмечает Т.В. Лохова, «значительная часть полей, ранее использовавшихся для выращивания хлеба, оказалась заброшенной, и в первые годы после освобождения Кубань не была включена в хозяйственный оборот» (Лохова, 2015: 61). Подобные проявления не могли не сказаться на последующем сборе урожая. При этом сеять надо было, страна, партия и фронт требовали хлеба.
И уже на 10 июня 1943 г. на освобожденных территориях Краснодарского края было посеяно 1 339 тыс. га, то есть 94 % согласно плану. А в Азовском районе Ростовской области за 1944 г. было сдано «зерна и подсолнуха более 1,5 млн пудов. Это в 3 раза больше, чем было сдано в 1943 г., и составляет 95 % хлеба, сдававшегося нами в довоенное время»5. Несмотря на весомые результаты, обеспечивались они ценой здоровья местных жителей, которые вынуждено несли все тяготы невзгод на своих плечах. Многие разграбленные хозяйства не имели сельскохозяйственного инвентаря, примерно 10 000 га земли было обработано вручную. В 1943 г. часть пахоты в крае была выполнена с помощью волов, лошадей, коров. Так, «для максимального использования лошадей вводилась строгая личная ответственность за их состояние, устанавливались нормы выработки, условия оплаты и льготы для колхозников, работавших на своих коровах» (Земсков, 2024: 107). Таким образом, власть и руководство хозяйства стремились сохранить и без того скудный ресурс живого тягла, а также стимулировать рабочих. Например, нормы выдачи хлеба трактористам ориентированы были на поощрение. В Приволенском мясосовхозе № 20 была установлена «норма выдачи хлеба трактористам – 600 гр. в день, при перевыполнении нормы выработки на 130 % – 150 гр., а при перевыполнении нормы свыше 130 % – 300 гр.»6. Более того, выдача продуктов питания трактористам была дифференцирована и отличалась в зависимости от работ на соответствующей марке трактора. Подобные санкции имели широкую практику и зависели от экономического положения и возможностей хозяйств. Например, устанавливались премии от 10 000 до 2 000 рублей в зависимости от занимаемых мест в социалистических соревнованиях. Вообще система их проведения, широко практиковавшаяся в довоенное время, стала активно восстанавливаться.
Тяжелая ситуация была с техникой, горючим и квалифицированными кадрами. В освобожденных районах Краснодарского края к 1943 г. было более 6 600 тракторов в 137 МТС, не хватало запчастей, а поступающие из других районов машины часто имели брак или находились в неисправном состоянии.
Критическое положение постепенно складывалось в сфере поставок хлеба. Уже к 29 ноября 1943 г. секретарь Каневского райкома партии и председатель райисполкома отмечали в докладной записке: «Запасы зерна, которые имелись у населения, в апреле… сданы в фонд РККА»1. Кризис хлебозаготовок нарастал, Краснодарский край к 1943 г. план хлебосдачи недовыполнил. Власть видела в этом попустительство руководства, саботаж, антигосударственные проявления и т. д. Действительно, саботаж колхозников имел место, но не массовый. Например, с начала уборочной кампании по конец ноября 1943 г. прокуратура «возбудила 123 уголовных дела, связанных с хлебозаготовками, привлекли к уголовной ответственности 197 человек»2.
Проблемы массово наблюдались не только с хлебопоставками, многие колхозы были не в состоянии расплатится с колхозниками по годовым трудодням, а если и расплачивались, то крайне незначительным количеством продукции.
В переписках между воинами и семьями фронтовиков присутствовала информация о фактах голода, бытовых нужд, тягот восстановления, а где-то и бездушного отношения со стороны местных властей. В письме из станицы Должанской от 06 октября 1943 г. говорилось: «Дела у нас очень плохие… люди голодные и пухлые… правление колхоза ни на что не обращает внимания»; в письме из станицы Новомышастовской, колхоз «Политотдел»: «Как украдем в колхозе немного зерна, так и хлеб есть, а то до сих пор не дают» и т. д.3 Подобные свидетельства не были исключением, при этом военные отделы райкомов стремились проверить данные факты и оказать всестороннюю помощь нуждающимся.
Подводя итог нашим рассуждениям, хотелось бы отметить, что восстановительный процесс сельского хозяйства не ограничивался несколькими годами. Он не мог быть строго запланированным, укладывающимся в требуемые рамки властей. Это была, хотя и весьма экстренно-скоростная, но и в то же время неспешная работа. Хозяйствам, кроме поставок, следовало возродить племенные хозяйства, наладить систему ветеринарного контроля и т. д., в некоторых областях сельского хозяйства не хватало и кадров, и финансирования. Руководству и партии были необходимы высокие статистические данные, положительная динамика урожая, показатели эффективности.
Восстановление затронуло и послевоенный период, период четвертой пятилетки. Но эти факты не принято было освещать в советской историографии.
И все же благодаря стойкости, трудолюбию советского крестьянства, государство получило ощутимые результаты от восстановленных хозяйств, а Красная армия в период военных действий – необходимую помощь. Таким образом, колхозники Дона и Кубани совершили трудовой подвиг, который вошел в историю нашей страны.