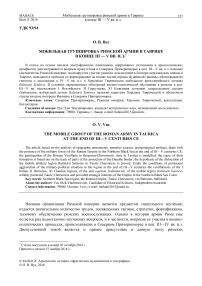Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III - V вв. н.э
Автор: Вус О.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа эпиграфических памятников, нарративных источников и археологических артефактов, рассматриваются вопросы присутствия в Северном Причерноморье в кон. III-V вв. н.э. военных контингентов Римской империи; моделируется участие римских вексилляций в боспоро-херсонесских войнах в Таврике; выясняются причины их формирования на основе частей охраны Дунайской границы; обосновывается гипотеза о дислокации в IV-V вв. н.э. в Херсонесе Таврическом мобильного артиллерийского легиона Balistarii Seniores. В условиях перманентных обострений военно-политической обстановки в регионе в кон. III-V вв. вексилляции I Италийского, II Геркулиева, XI Клавдиева легионов, подразделение equitum Dalmatarum, мобильный легион Balistarii Seniores надежно защитили Херсонес Таврический и обеспечили стратегические интересы Империи в Северном Причерноморье.
Северное причерноморье, римская империя, херсонес таврический, вексилляция, баллистарии
Короткий адрес: https://sciup.org/14118135
IDR: 14118135 | УДК: 93/94 | DOI: 10.5281/zenodo.556171
Текст научной статьи Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III - V вв. н.э
Военная организация Римской империи является предметом тщательного изучения; издается значительное количество трудов, посвященных тактике, стратегии, фортификации, тыловому обеспечению римских военнослужащих. Однако в истории армии Рима еще остается ряд недостаточно изученных вопросов, и в частности, вопросов ее участия в военнополитических процессах, происходивших в Северном Причерноморье в кон. III—IV вв. н.э. Дискуссионной темой является и прямое присутствие в данную эпоху римских
Вып. 8. 2016
военнослужащих в крупнейшем позднеантичном центре региона — в Херсонесе Таврическом.
Основными источниками по этой проблематике являются латинские эпиграфические памятники, в разное время открытые в руинах Херсонеса (Лепер 1912: 23—70; ЛНХТ; Ростовцев 1907: 1—20; Шангин 1938: 72—87; IOSPE I²; IOSPE V), археологические артефакты, а также ряд нарративных источников: трактат Константина VII Багрянородного (913—959) «Об управлении империей» (DAI), «Жития святых епископов Херсонских» (Жития), и др.
В 1907 г. российский академик М. И. Ростовцев впервые предположил, что в нач. IV в. н.э. в Херсонесе был размещен малый легион баллистариев, принадлежавший « к числу комитата или псевдокомитата ». По мнению ученого, этот отряд мог носить наименование, связывавшее его с одним из Константинов или Констанциев — Constantini , Constantiani , или Constantiniani (Ростовцев 1907: 13—14).
В 1972 г. британский исследователь д-р Р. С. О. Томлин пришел к выводу, что в IV в. н.э. в Крыму дислоцировался римский легион Balistarii Seniores , находившийся в подчинении военного магистра Востока (Tomlin 1972: 272). В 1999 г. подобную точку зрения высказал и немецкий историк д-р Д. Баатц (Baatz 1999: 5—19).
В 1994 г. д.и.н. В. М. Зубарь (Украина) выступил с гипотезой о существовании в Херсонесе Таврическом на рубеже III—IV вв. н.э. собственного гарнизона, вооруженного метательными установками, сформированного по образцу малого легиона в эпоху правления Константина I (306—337) и представлявшего собой городскую иррегулярную милицию (Зубарь 1994: 136—137; Зубарь 2000: 291—302). Однако в том же 1994 г. французский ученый д-р К. Цукерман выступил с критикой этой концепции. Основываясь на новом прочтении уже известных памятников, он предположил, что в кон. III — нач. IV в. н.э. в Херсонесе находилась регулярная часть римской армии — легион Balistarii Dafnenses , подчинявшийся военному магистру Фракии (Цукерман 1994: 559; Zuckerman 1991: 527— 553).
Не прекращается дискуссия и на современном этапе исследований. К версии, предложенной М. И. Ростовцевым, Р. С. О. Томлином и К. Цукерманом, склоняются украинские историки К. Н. Колесников (Колесников 2012: 66) и О. В. Вус (Вус 2015: 77— 78); гипотезы В. М. Зубаря придерживается М. В. Фомин, полагающий, что отряд баллистариев был собственным военным формированием Херсонеса (Фомин 2012: 104—105; Фомин 2015: 105—108).
В 2010 г. российский историк А. Ю. Виноградов предложил новую версию расшифровки латинских и греческих надписей Херсонеса, в том числе, касающихся функционирования римского гарнизона. По его мнению, «… в надписи времен Валента баллистрарии предстают перед нами как часть, подчиненная центральному военному командованию » Римской империи (Виноградов 2010: 100).
В 2014 г. профессор, д.и.н. С. Б. Сорочан (Украина), проанализировав гл. 53 трактата Константина Багрянородного «Об управлении империей», пришел к выводу, что выделявшееся Константином Великим в перв. трети IV в. довольствие для Херсонеса, возможно, шло на обеспечение местного ополчения, составлявшего 1/6 часть населения города (Сорочан 2014: 124—125).
В 2015 г. профессор, д.и.н. А. И. Айбабин выступил с компромиссной гипотезой. Он предположил, что размещенные в Херсонесе « при Валенте и соправителях » баллистарии « являлись солдатами римской армии, а не городской милицией. Таковыми стали их потомки, которые наследовали службу в отряде » (Айбабин 2015: 17).
Вып. 8. 2016
Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III — V вв. н.э.
Можем констатировать, что вопрос прямого военного присутствия римлян в Крыму в позднеантичную эпоху по-прежнему является открытым.
Усиление обороны Херсонеса Таврического на рубеже III—IV вв . IV в. стал переломным в истории всего Северного Причерноморья, и в том числе, в истории Херсонеса. На протяжении столетия этот город был главным опорным пунктом и военно-морской базой Римской империи в регионе. Безусловно, стратегически важный для Рима город нуждался в сильной войсковой защите. Долгое время было принято считать, что римские части ушли из Херсонеса в период правления императора Галлиена (253—268) (Сорочан и др. 2001: 131), однако анализ ряда эпиграфических памятников показывает, что это не так. Уже в кон. III в. milites вновь были введены в город.
Возможно, причиной тому стала боспоро-херсонесская война 291—293 гг., в ходе которой римляне выступили союзниками херсонеситов (Харматта 1967: 205, 207—208; Зубарь, Русяева 2004: 213). Объединив войска, они нанесли удар в тыл боспорскому царю Савромату, сыну Крискорона (на самом деле, Фофорсу (285—308)1, воевавшему в то время в Лазике, и даже захватили его столицу (DAI, 53, 1—44). Полководец Констант (Констанций I Хлор, 293—306), о действиях которого рассказывает Константин Багрянородный (DAI, 53, 10—13, 71—123), в 293—294 гг. был отмечен почетными титулами Germanicus Maximus и Sarmaticus Maximus , что свидетельствует о прямом (и успешном) участии римлян в боевых действиях (Barnes 1982: 255).
В 1900 г. К. К. Косцюшко-Валюжинич, в 1910 г. Р. Х. Лепер, а в 1928 г. К. Э. Гриневич обнаружили в руинах Херсонеса части мраморной плиты с фрагментированной надписью. К. Э. Гриневич сделал свою находку возле 19-й куртины в цитадели, среди артефактов первых веков н. э. (ЛНХТ 53). М. А. Шангин определил эту надпись как надгробную2. Вот ее перевод: « При здравствующих государях императорах Августах счастливейших непобедимейших… Диоклетиане и Максимиане…, сын Публия, прожил лет … легиона легат … в Италии и Паннонии… гражданин римский, которому уже отец… и друзья… » (Шангин 1938: 80). М. А. Шангин датировал надпись 286—293 гг., так как именно в это время Диоклетиан (284—305) и Максимиан Геркулий (285—305), будучи соправителями, носили титулы августов.
Исходя из имеющейся информации, некий высокопоставленный имперский военачальник ранее служивший в Италии и Паннонии, скончался по неизвестной причине не позже 293 г. в Таврике, и был погребен недалеко от цитадели Херсонеса.
Обращают внимание фрагменты еще одной надписи, вырезанной на мраморном брусе. Брус был обнаружен М. И. Скубетовым в руинах средневекового здания в северо-восточной части Херсонеса. Надпись имела парадный характер3. По мнению Р. Х. Лепера, ее сделали в
Вып. 8. 2016
честь неизвестного римского военачальника. Согласно его интерпретации, этот командир был « отмечен преданностью [ войска ] … доставил (Херсонесской) общине [ безопасность? ] … поверг во прах [ врагов Римского народа ] и (Херсонесской) общины ]» (Лепер 1912: 70, № 20). Э.И. Соломоник датировала эту надпись рубежом III—IV вв. н. э. (ЛНХТ 54).
Присутствие в Таврике в кон. III — нач. IV в. двух высокопоставленных военачальников говорит о многом. Поэтому, несмотря на замечание Н. Н. Болгова о том, что Рим в данную эпоху действовал в Таврике не непосредственно, а руками Херсонеса (Болгов 2004: 47), вполне можем допустить и прямое участие римлян в херсонесско-боспорской войне.
В пользу этой версии говорит и находка на Южном берегу Крыма в 2005 г. римского запрестольного креста IV в. (Гнутова 2006: 120—139). С. В. Гнутова утверждает, что подобные crux immissa относились к воинским крестам, и принадлежали высшему командному составу Империи. Находка может свидетельствовать о том, что служба римских офицеров не ограничивалась одним Херсонесом, но в каких-то формах (контрольные поездки, карательные акции, разведывательные мероприятия) проходила на всем побережье Таврики.
Естественно, римские военачальники не могли действовать на полуострове в одиночку. Они, безусловно, нуждались в вооруженной охране, адъютантах, личной прислуге. Т.е. тех, кто составляет свиту полководца. Следы пребывания этих людей в Херсонесе Таврическом также зафиксированы эпиграфическими памятниками.
В 1961 г. С. Ф. Стржелецкий, исследовавший XVII оборонительную башню Херсонеса, обнаружил известняковую плиту с двумя плохо сохранившимися латинскими надписями (ЛНХТ 55). В них упоминался Марк Аврелий Валерий Максенций (306—312), в октябре 306 г. захвативший власть в Риме с помощью преторианцев (Грант 1998: 255). В первой надписи, сделанной римским центурионом Валентом, подчеркивается «избрание» Максенция на престол войсками4. Во второй надписи Валент приветствует Максенция от лица воинов крупного формирования — « легион а…», возможно, обещавшего « хорошо … » послужить новому Цезарю5.
Некоторые памятники несут информацию о военно-инженерной деятельности римлян. В 1794 г. академик П. С. Паллас обнаружил в Севастополе плиту со строительной латинской надписью (Pallas 1801: 65). В 1907 г. М. И. Ростовцев установил, что в тексте упоминаются два Цезаря и два Августа, в эпоху правления которых солдаты занимались возведением (или ремонтом) фортификаций под руководством протектора6. По мнению М. И. Ростовцева, это
Вып. 8. 2016
Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III — V вв. н.э.
строительство относилось « либо ко времени Диоклетиановской, либо ко времени Констанциевской тетрархии », то есть, до конца правления Констанция I Хлора — Цезаря в 293—305 гг., Августа в 305—306 гг. (Ростовцев 1907: 13).
Все эти надписи свидетельствуют о том, что римские части после войны 291—293 гг. из Херсонеса Таврического не выводились, и в 306 г. продолжали нести службу в городской цитадели. Не вывели их и потом. Это предположение подтверждает фрагмент надписи на мраморной плитке, упоминающий двух соправителей: императоров Флавия Лициния (308— 324) и Константина I (306—337)7. Вероятно, надпись была сделана до 316 г. Т.е. до начала боевых действий между соправителями, либо во время перемирия 317—324 гг. (Грант 1998: 268—269).
Отдельные эпиграфические памятники сохранили названия частей, которые дислоцировались в Херсонесе в кон. III — нач. IV в. н.э., и, вероятно, принимали участие в боевых действиях в Таврике. Так, в 1905 г. на территории бывшего порта Херсонеса была обнаружена выветрившаяся плита известняка с плохо сохранившейся надписью, которую М. И. Ростовцев считал посвятительной или надгробной (Ростовцев 1907: 20; IOSPE I ² 572)8. В четвертой и пятой строках надписи просматривается аббревиатура «...ITAL ET…» и «…II HERC…»9, — сокращенное название вексилляции двух римских легионов ( VIXILLATIONIS LEGIONIS I ITALICAE ET LEGIONIS II HERCULIA ), в 285—305 гг. находившейся в цитадели Херсонеса. Такой же версии придерживаются специалисты Гейдельбергской академии наук, опирающиеся на публикации надписи, сделанные в 1984 г. А. Шастаньолем и в 1994 г. М. Корбье10 (AÉ 1984: № 808; AÉ 1994: № 1539a).
По данным Notitia Dignitatum 11, основные силы легионов дислоцировались на Дунайской границе, в провинциях Moesia II и Scythia . Подразделения и штаб I Италийского легиона
Вып. 8. 2016
находилась в Novae и Sexaginta Prista 12, II Геркулиева легиона — в Troesmis и Axiupoli 13 (ND. Or., XL, 30—32, XXXIX, 29—31).
Обе части имели особую организационную структуру: их специализацией была береговая оборона. Каждым легионом командовал praefectus legionis , а во главе подразделений, занимавших выделенные им участки границы, стояли префекты побережья ( praefectus ripae ). Префекту легиона подчинялись 10 пехотных когорт. Когорты взаимодействовали с четырнадцатью вспомогательными отрядами всадников ( cunei equitum ), разбросанными от Sucidava до Appiaria , а также с флотилией легких речных кораблей ( musculorum Scythiorum et classis ), база которой находилась в Платейпегиях (ND. Or. XL, 11—17, XXXIX, 12—18, 35). Фактически легионы береговой обороны ( legiones riparienses ) являлись оперативными соединениями разнородных сил, предназначенных для выполнения комплексных боевых задач в прибрежной зоне.
По мнению Э. фон Нишера, II Геркулиев легион был сформирован в кон. III в. императором Диоклетианом (284—305) и по количественным показателям (5500 чел.) мало уступал старым имперским легионам (Nischer 1923: 3, 6, 9). Возможно, именно поэтому римское командование приступило к созданию крупных временных частей (вексилляций) из подразделений береговых легионов. Они предназначались для выполнения особых боевых задач на отдаленных театрах военных действий. Такие части назывались «тысячными вексилляциями» ( vexillationes milliariae ) и состояли из 1040 военнослужащих (Duncan-Jones 1990: 111). Командовать крупными вексилляциями назначался офицер в ранге препозита (ILS I. 2726), в кон. III—IV вв. часто носивший почетное звание протектора14.
В условиях частых обострений военно-политической обстановки в Северном Причерноморье на рубеже III—IV вв. римскому командованию удалось обеспечить перманентную сменяемость воинских контингентов в регионе. Этот вывод подтверждает найденное в 1995 г. в ходе раскопок цитадели Херсонеса (руководитель И. А. Антонова) посвящение римского препозита и протектора Аврелия Канди…?, высеченное на каменном блоке. Из содержания надписи следует, что под его началом были подразделения XI Клавдиевого и I Италийского легионов, а также отряд Далматской конницы ( equites Dalmatae )15.
По данным Notitia Dignitatum XI Клавдиев легион в IV в. входил в состав частей береговой обороны на Дунайской границе. Его штаб и 10 пехотных когорт дислоцировались в Durostoro и Transmariscae в провинции Moesiae II (ND. Or. XL, 33—35)16. Боевую деятельность XI Клавдиевого и I Италийского легионов обеспечивала флотилия речных кораблей, база которой находилась в Sexaginta Prista (ND. Or. XL, 32, 36).
Вып. 8. 2016
Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III — V вв. н.э.
Частей Далматской конницы в провинциях Moesia II и Scythia не было, но можем предположить, что одно ее подразделение прибыло в Херсонес на корабле самостоятельно из портов западного побережья Черного моря. Дело в том, что в кон. III — перв. пол. IV вв. здесь дислоцировалась крупная кавалерийская часть — вексилляция equitum Dalmatarum comitatenses Anc ( h ) ialitana (CIL III 405). Как следует из названия, часть входила в состав мобильных полевых войск императора Константина I (активно создававшего их в 311—325 гг.) (Tomlin 2006: 251—252), а местом ее расквартирования был порт Anchialos во Фракии (Вус 2016: 31—32).
Хотя численность подразделения всадников вряд ли превышала 100 чел. (Méa 2014: 129, tabl. 39), присутствие в составе вексилляции equitum Dalmatarum позволяет утверждать о мобильном характере римской группировки. Т.е. она предназначалась не только для обороны Херсонеса, но и для активных действий в поле. В связи с этим тезис Д. Ван Берхэма о полном отсутствии подвижности у частей береговой обороны после реформ Диоклетиана— Константина и неспособности войск riparienses к наступательным действиям (Ван Берхэм 2005: 156) следует признать ошибочным.
Прибытие вексилляции Аврелия Канди… в Херсонес могло быть вызвано каким-то важным событием, вероятно, очередной войной римских союзников с племенами «варваров». Константин VII Багрянородный в трактате «Об управлении империей» сообщает о двух войнах, происходивших в кон. III — перв. трети IV вв. на территории Таврики, европейского и азиатского Боспора, а также римской провинции Скифия на Дунае (DAI 53).
В 323 г. римским войскам и херсонесскому ополчению пришлось сражаться с причерноморскими «варварами», во главе которых стоял бывший царь Радамсад, правивший Боспором в 309/310—319/320 гг. В силу неясных причин Радамсад был отстранен от власти Рескупоридом V (318/319—336/337), после чего возглавил набег на границы Империи в Нижнем Подунавье (Зубарь, Русяева 2004: 214—215). Рейд был разгромлен на «варварской» территории, а сам Радамсад погиб (Болгов 2008: 130).
Память о вексилляции, посланной Константином Великим в Таврику, сохранилась в византийских агиографических источниках. Так, «Жития святых епископов Херсонских» сообщают, что в 325 г. гарнизон Херсонеса был усилен римской частью из 500 воинов под командованием Феоны (Жития, 376, 14—16).
Вероятно, речь шла об одной из когорт, входивших в состав вексилляции Аврелия Канди… . Согласно «Житиям», это подразделение перевели в Таврику для оказания силовой поддержки еп. Капитону при введении христианства. Но мы, имея представление о военнополитической ситуации в регионе в нач. IV в., можем предположить, что главной целью римлян было наращивание сил на отдаленном театре военных действий. И хотя на данное время неизвестно, из какой имперской провинции прибыло подразделение Феоны, можем утверждать, что оно являлось пехотной когортой, усилившей римскую вексилляцию во время очередного обострения боспоро-херсонесских отношений.
По мнению С. В. Ярцева, император Константин отправил этот контингент в Таврику не для защиты Херсонеса (или поддержки христианской общины), а для « отчуждения у Боспора Предгорного Крыма ». При этом римским частям « удалось аннексировать значительную часть принадлежавшей ранее Боспору территории » (Ярцев 2016: 229). По-видимому, в 328—329 гг. войной были охвачены западные границы Боспорского царства (район Судака и Феодосии). В пользу этой версии свидетельствует значительное число кладов монет царей Фофорса, Радамсада и Рескупорида V, обнаруженных в ходе раскопок разгромленных поселений боспорян (Исанчурин, Исанчурин 1989: 90—92; Шелов 1950: 134—139).
Вып. 8. 2016
Характерно, что позднеантичные поселения в районе Судака располагаются на крутых труднодоступных горных склонах, что явно говорит о желании местного населения уйти как можно дальше от побережья (Джанов 2004: 51).
Можем предположить, что в 328—337 гг. район Судака и Феодосии стал районом активных боевых действий и местом проведения морских десантных операций (Вус 2013: 106). Отправка с Дунайской границы в Таврику вексилляции Аврелия Канди…, сформированной из частей riparienses , специально обученных для действий в прибрежной зоне, свидетельствует в пользу такой версии. Косвенно этот вывод подтверждают два памятника оборонной архитектуры (бург и полубашня), в 1965 г. открытые на берегах бухты с. Уютное близ Судака (Вус 2013: 102). Оба памятника были возведены в перв. пол. IV в. н.э. в типичных позднеримских архитектурно-инженерных традициях (Вус 2013: 105—107, 108; Лопушинская 1991: 98, 99). Целью строительства было обеспечение надежной защиты порта, стратегически важного для высадки и снабжения войск.
Сведения о еще одном воинском формировании содержит трактат Константина VII Багрянородного «Об управлении империей». В гл. 53 автор описал тактику, вооружение, особенности комплектования и снабжения подразделения херсонесских баллистариев (DAI, 53, 28—44, 124—161). Эти воины, вооруженные установками торсионной артиллерии (баллистами), смонтированными на военных колесницах, принимали активное участие в боспоро-херсонесской войне. В решающем бою у стен Боспора они, применив сложную тактику обманных, засадных, и наступательных действий, обеспечили победу над противником; затем, захватив столицу царства и ряд крепостей на Меотиде, какое-то время стояли там гарнизоном, удерживая важные позиции (DAI, 53, 28—44).
Высокая оперативная подвижность и наступательная тактика баллистариев, широкий круг выполняемых задач, свидетельствуют о том, что они могли быть кем угодно, но только не иррегулярной вооруженной милицией. Полагаю, что эрудит, сообщивший Константину VII Багрянородному данные при написании трактата, сознательно исказил правду об участии римлян в войнах с Боспором для того, что бы подчеркнуть особый статус и права Херсонеса, дарованные городу Диоклетианом и Константином Великим (DAI, 53, 106—119, 135—161).
Сведения Константина VII Багрянородного о снабжении и комплектовании части также свидетельствует о ее принадлежности к римской армии. Оговаривая перечень материалов, высылаемых в Херсонес для изготовления баллист (а это железо, пенька, жилы, оливковое масло), Константин I Великий определяет и количество продовольственных пайков (аннон), выделяемых для баллистариев. Их ровно тысяча (DAI, 53, 149—154). А это, наряду с прочими данными, наводит на мысль о присутствии в Херсонесе мобильного легиона comitatensis , оптимальная численность которого, по мнению Т. Моммзена и Э. фон Нишера, составляла 1000 военнослужащих (Mommsen 1910: 215; Nischer 1923: 13).
Константин VII Багрянородный заострил внимание на наследовании военной службы в легионе. Он подчеркнул, что « доныне … сыновья (воинов — О. В. ) зачисляются в [ это ] число сообразно с состоянием стратии родителей » (DAI, 53, 154—158). Заметим, что принцип наследования военной службы стал активно внедряться в имперской армии с 30 июля 326 г. (CTh, VII, 22, 2). Это означает, что раньше этой даты легион в Таврику попасть не мог.
По данным трактата, военнослужащие легиона были вооружены ручными баллистами (χειροβολίστρα), однако установка их на боевых колесницах не рациональна. По мнению В. А. Тихонова, это были не колесницы, а « военные орудия » (Тихонов 2014: 184), смонтированные на специальной поворотной платформе, устанавливавшейся на
Вып. 8. 2016
Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III — V вв. н.э.
двухколесной базе. В бою расчет мог легко развернуть баллисту на 180 градусов (Стратегикон, XII В, 6).
По данным Флавия Вегеция Рената (кон. IV — нач. V в.), в классическом имперском легионе насчитывалось 55 карробаллист17, каждая из которых обслуживалась расчетом из 11 человек (Veget., II, 25). Однако в IV в. войны стали высокоманевренными и развернутые шеститысячные легионы уже не успевали реагировать на набеги варваров, стремившихся прорвать границы Империи. Новые же легионы Константина I Великого ( comitatenses ) создавались как компактные высокомобильные части, в любой момент готовые выступить в поход. Вероятно, некоторые из них изначально формировались с определенной специализацией, в том числе и артиллерийской.
Выскажем предположение, что легионы баллистариев были частями смешанной структуры: ведь командирам необходимо было обеспечивать заполнение боевых порядков на позициях карробаллист. Схожего мнения придерживается М. В. Фомин, который считает, что в подразделении херсонесских баллистариев насчитывалось не более 25 боевых метательных установок (Фомин 2015: 105—108). Таким образом, в артиллерийском легионе могло служить 975 чел.: 275 баллистариев; 500 воинов в составе пехотной когорты, прикрывавшей позиции баллист, еще 200 — командиры, тыловики, инженеры, разведчики, связные, саперы и т.д.18.
Из Notitia Dignitatum нам известны пять мобильных артиллерийских легионов в восточной части Империи: Balistarii Seniores — legio comitatensis в подчинении военного магистра Востока (ND. Or., VII, 43); Balistarii Iuniores и Balistarii Dafnenses — legio comitatensis в подчинении военного магистра Фракии (ND. Or., VIII, 46, 47); Balistarii Theodosiaci — legio pseudocomitatensis в подчинении военного магистра Востока (ND. Or., VII, 57); Balistarii Theodosiani Iuniores — legio pseudocomitatensis в подчинении военного магистра Иллирика (ND. Or., IX, 47).
В 1905 г. К. К. Косцюшко-Валюжинич при разборке крепостной стены Херсонеса у Карантинной бухты, обнаружил мраморный столб с надписью на латыни19. М. И. Ростовцев датировал ее 370—375 гг., приведя следующие аргументы: « Domicius Modestus был, … префектом претория Востока от 370 до 378 г., года смерти Валента. В надписи фигурируют три императора, из которых Грациан сделался соправителем в 367 г., а
Вып. 8. 2016
Валентиниан умер 17 ноября 375 г. Следовательно, надпись поставлена между 370 и 375 гг. по Р. Хр. » (Ростовцев 1907: 7, № 2; PLRE I: Dom. Modestus 2, Fl. Valens 8, Fl. Gratianus 2, Fl. Valentinianus 7). Ее расшифровка дает ответ на вопрос, какое подразделение римских баллистариев воевало на полуострове в IV в. н. э. и впоследствии стало основой херсонесского гарнизона.
В новейшей версии А. Ю. Виноградова (2010 г.) текст восстанавливается так: « При здравствующих государях наших … и славнейших принцепсах Валентиниане, победоноснейшем государе, и Валенте, брате Валентиниана, во всем величайшего, и Грациане, сыне Валентиниана, внуке Валента, вечных августах, Домиций Модест, муж сиятельнейший, префект претория, и …, муж сиятельнейший, комит и магистр, преданные императорскому гению и их величию, под начальством и руководством … децемприма препозита … или баллистрариев … мужа совершеннейшего, отца нового … » (Виноградов 2010: 93). Однако предложенный А.Ю. Виноградовым вариант прочтения «sev/sen» в 13-й строке текста как «seu» (лат. «или») вызывает вопросы. Военно-инженерная практика (и военная служба вообще) не терпят двойной трактовки, колебаний или сомнений «или-или». Римская военная эпиграфика лапидарна и точна по смыслу. М. И. Ростовцев восстанавливал название части 13-й и 14-й строк надписи как « sen[iorum] bal[listariorum] », аргументируя тем, что « seu» вместо « sen» было результатом крошения камня (Ростовцев 1907: 9, № 2).
А. Ю. Виноградов уточняет датировку надписи, восстанавливая в 9-й строке имя и титулатуру комита и магистра конницы и пехоты Востока Юлия («... Iulius (?)] vi[r] clar(i)ssimus comes et magister »)20, занимавшего должность в 371—378 гг. (Виноградов 2010: 93—94; PLRE I: Iulius 2). В данный период времени легион Balistarii Seniores напрямую подчинялся этому полководцу (ND. Or., VII, 43). Иными словами, магистр конницы и пехоты Востока Юлий имел полное право отдать приказ о передислокации легиона в Таврику.
Интересно, что К. Цукерман восстанавливает в 13-й строке надписи слова «devotissimorum mecha]n[ic]orum» (Zuckerman 1991: 527—553). Учитывая, что текст имеет строительный характер, такой вариант прочтения вполне допустим. Возможно, в памятнике сообщалось о возведении под руководством римского препозита какого-то важного объекта «преданными механиками (легиона — О. В. ) Старших Баллистариев» — «devotissimorum mechanicorum Seniorum Ballistariorum» .
В пользу этой версии свидетельствует греческая надпись на плите известняка21, которая сообщает о сооружении новой стены города при содействии римского трибуна Флавия Вита коллективом механиков в 392—393 гг.22. В позднеантичную эпоху механики относились к
Вып. 8. 2016
Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III — V вв. н.э.
категории военных инженеров23. Их служба заключалась в проведении технических расчетов, составлении чертежей, постройке боевых метательных установок, возведении фортификационных сооружений и т.д. Не исключено, что механики входили в состав артиллерийских легионов (или прикомандировывались к ним) для выполнения вышеперечисленных задач. В таком случае, упоминаемый в надписи военный трибун Флавий Вит вполне мог быть командиром легиона Balistarii Seniores . По мнению Т. Моммзена, офицеры, имевшее такое звание, возглавляли в IV в. н.э. мобильные легионы comitatensis (Mommsen 1910: 215).
Сорок лет назад советские археологи обнаружили следы присутствия баллистариев в Херсонесе. Так, в 1974—1975 гг. в ходе раскопок 13-й куртины оборонительных стен на южном участке обороны, Н. В. Пятышевой были открыты остатки специальной крытой галереи с вымощенной плинфой платформой для баллисты. Там же археологи выявили запас круглой морской гальки, заменявшей каменные ядра (боллы) для стрельбы. В самой куртине были обнаружены три широкие амбразуры, позволявшие боевым расчетам настильным огнем из баллист простреливать всю эспланаду перед фронтом куртины (Вус 2010: 73—74; Зубарь, Седикова 2008: 646—648, 656—658). Кроме того, на херсонесском городище и могильнике были найдены шарнирные Т - образные фибулы типа Келлер 4 и Келлер 5, которыми, по мнению А. И. Айбабина, в кон. IV — перв. пол. V в. застегивали свои плащи римские чиновники и солдаты (Айбабин 2015: 16—17).
В V в. н.э. содержание боевой деятельности легиона Balistarii Seniores изменилось. Если в предыдущем столетии баллистарии принимали активное участие в полевых стычках, штурмах и осадах, то с установлением военно-политического господства гуннов в степях и предгорьях Таврики боевая служба легиона ограничилась Херсонесом и ближней округой. Эта служба заключалась в выполнении охранно-полицейских, таможенно-досмотровых, и ремонтно-восстановительных (применительно к оборонным сооружениям) функций. В 488 г. греческая строительная надпись, найденная в кладке XVII башни («башни Зинона») в последний раз зафиксировала инженерную практику «преданных баллистариев» в цитадели Херсонеса24.
Анализ текста показывает, что в подразделении херсонесских баллистариев вплоть до конца V в. сохранялись элементы организационно-штатной структуры римских легионов. Упомянутый в надписи «викарат», вероятно, являлся резиденцией викария. В
Вып. 8. 2016
позднеримской армии «викарий» — vicarius — это звание (затем должность) старшего командного состава (Банников, Щеголев 2016: 22; Veget. II, 9; III, 4). В частях, сформированных в конце III — IV вв., викарий являлся первым заместителем командира (Richardot 1995: 422). Как правило, командир легиона имел звание старшего трибуна ( tribunus major ), а его заместитель, соответственно, звание младшего трибуна ( tribunus minor ) (Veget. II, 7). В случае гибели или отсутствия командира, викарий брал на себя всю полноту ответственности за подчиненных. О. Шмитт подчеркивает, что на практике именно викарии непосредственно руководили частями (Schmitt 2001: 100).
Можем предположить, что херсонесский викарат возглавлял заместитель командира ( vicarius и tribunus minor ) легиона Balistarii Seniores. Кроме выполнения прямых служебных обязанностей, викарий руководил еще и практионом, занятым сбором налогов, которые шли на содержание самих баллистариев, ремонт и строительство фортификационных сооружений (Сорочан 2003: 30).
По нашему мнению, 53-я глава DAI, эпиграфические памятники и археологические артефакты, надежно засвидетельствовали дислокацию в главном городе Таврики легиона Старших Баллистариев — находившегося в подчинении военного магистра Востока; в 20-30х гг. IV в. принявшего участие в войне с Боспором; в последней трети IV — V вв. ставшего основой местного гарнизона, и пребывавшего на крымской земле до момента расформирования в VI в.25
Выводы. Несмотря на то, что вопросы прямого военного присутствия римлян в Северном Причерноморье в конце III — V вв. н.э. нуждаются в дополнительных исследованиях, можем предположить, что в период совместного правления Диоклетиана и Максимиана Геркулия (285—305) Таврика вновь вошла в сферу стратегических интересов Римской империи.
Эпиграфические памятники Херсонеса свидетельствуют о пребывании в городе в конце III — начале IV вв. вексилляции, созданной из когорт I Италийского и II Геркулиева легионов. Возможно, именно эта вексилляция обеспечила победу над боспорским войском в войне 291—293 гг., после чего был заключен мир на выгодных для Рима (и Херсонеса) условиях. В 20-х гг. IV в. в Таврику была переброшена вексилляция под командованием препозита Аврелия Канди…, состоявшая из когорт XI Клавдиевого, I Италийского легионов, и подразделения equitum Dalmatarum . В 323 г. римляне и херсонесское ополчение успешно отразили набег «варваров» Радамсада на Нижнем Дунае. В 325 г. вексилляция была усилена квингенарной когортой под командованием Феоны.
В ходе начавшейся в 328 г. боспоро-херсонесской войны, в Таврику был переведен мобильный артиллерийский легион Balistarii Seniores , созданный в ходе военных реформ Константина Великого. Легион активно сражался на Европейском Боспоре. В решающем бою у стен столицы Боспорского царства баллистарии одержали победу и захватили город. Из Таврики легион уже не выводился. Возможно, его дальнейшее присутствие на полуострове было необходимо для обеспечения безопасной доставки хлеба в столицу Империи. Из речей ритора Фемистия (317—388) известно, что в 60-е годы IV в. зерно регулярно поставлялось из Херсонеса и Боспора в Константинополь (Фемистий, XXVII, 336d; Dagron 1974: 531—532). Затем в Северное Причерноморье пришли гунны, и легион остался в Таврике обеспечивать безопасность уже самого Херсонеса.
Эпиграфические памятники четко фиксируют пребывание баллистариев в Крыму в 371— 375 гг. и в 488 г. К 392—393 гг. относится упоминание о возведении новых стен Херсонеса
Вып. 8. 2016
Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III — V вв. н.э.
механиками под руководством трибуна Флавия Вита, возможно, командира легиона баллистариев.
Можем констатировать, что римское командование перебрасывало в Таврику отнюдь не заурядные части. В конце III — первой трети IV вв. н.э. здесь оперировали «тысячные вексилляции», составленные из когорт частей береговой обороны ( riparienses ). Организационная структура и подготовка этих подразделений наиболее соответствовала ставившимся перед ними задачам: успешному ведению боевых действий в прибрежной зоне. Возможно, благодаря высокой боевой выучке и оперативной подвижности, «тысячные вексилляции» стали образцом при формировании в первой трети IV в. мобильных войск ( comitatenses ). Логичным решением выглядит и перевод в Таврику артиллерийского легиона Balistarii Seniores , способного выполнять широкий спектр заданий. Отличительной чертой легиона была его универсальность: воины-баллистарии участвовали в полевых боях, штурмовали вражеские крепости, обороняли Херсонес, ремонтировали и строили фортификационные сооружения.
В целом, комплекс сохранившихся эпиграфических памятников и нарративных источников подтверждает наш вывод о перманентном присутствии римского контингента в Херсонесе Таврическом в конце III — V вв. н.э., его активном участии в мероприятиях по усилению оборонного комплекса города, и ведущей роли римских военнослужащих в обеспечении стратегических интересов Империи в Северном Причерноморье.
Список литературы Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III - V вв. н.э
- Айбабин А. И. 2015. О гарнизоне римской империи в Херсонесе в IV в. ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: Империя и Полис: Материалы научной конференции VII-й Международный Византийский Семинар (Севастополь -Херсонес. 01-05.06.2015). Севастополь: НЗХТ, 15-18.
- Банников А. В., Щеголев С. И. 2016. Изменение структуры командного состава легионов в период Поздней империи. Альманах современной науки и образования 3, 20-23.
- Болгов Н. Н. 2004. Между империей и варварами: финал античности на Боспоре. Україна в Центрально-Схiднiй Европi. Вип.4. Київ: Iнститут iсторiї України НАН України, 39-76.
- Болгов Н. Н. 2008. Основные проблемы восточно-римской и ранневизантийской политики на Северном Понте (сер. III-VI вв.). НвБелГУ 5. № 1, 128-137.
- Ван Берхэм Д. 2005. Римская армия в эпоху Диоклетиана и Константина. B: Холод М. М. (отв. ред.) Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет; Акра.
- Виноградов А. Ю. 2010. «Миновала уже зима языческого безумия…» Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. Москва: Университет Дмитрия Пожарского.
- Вус О. В. 2010. Оборонна доктрина Вiзантiї у Пiвнiчному Причорномор'ї: iнженерний захист Таврики та Боспора в кiнцi IV -на початку VII ст. Львiв: Трiада-Плюс.
- Вус О. В. 2013. Приморские castella tumultaria Судака в контексте военно-инженерной практики римлян в Крыму в IV веке. Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Т. 2. Харьков: Майдан, 102-115.
- Вус О. В. 2015. Боевая деятельность легиона Balistarii Seniores в Крыму в IV-V вв. Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. Харьков: НТМТ, 74-79.
- Вус О. В. 2016. О присутствии частей Фракийской группировки comitatenses в Крыму в IV в. н.э. Проблемы истории и археологии Украины: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 125-летию профессора К. Э. Гриневича. Харьков: НТМТ, 31-32.
- Гнутова С. В. 2006. «Константинов крест» -древнейший памятник раннехристианского искусства на территории России. Родное и вселенское: К 60-летию Н. Н. Лисового. Москва: Паломнический центр Московского Патриархата, 120-139.
- Грант М. 1998. Римские императоры: Биографический справочник правителей Римской империи 31 г. до н. э. -476 г. н. э. B: Гитт М. (пер.). Москва: Терра -Книжный клуб.
- Джанов А. В. 2004. Сугдея в III-VII вв. Сугдейский сборник 1. Киев; Судак: Академпериодика, 45-74.
- Зубарь В. М. 1994. Херсонес Таврический и Римская империя. Очерки военно-политической истории. Киев: Стилос.
- Зубарь В. М. 2000. По поводу присутствия римских войск в Херсонесе во второй половине III -на рубеже IV-V вв. Stratum plus 4, 291-302.
- Зубарь В. М., Русяева А. С. 2004. На берегах Боспора Киммерийского. Киев: Стилос.
- Зубарь В. М., Сарновски Т., Антонова И. А. 2001. Новая латинская надпись из раскопок цитадели и некоторые вопросы позднеантичной истории Херсонеса. ХСб. XI. ANAXAPΣIΣ: Памяти Юрия Германовича Виноградова, 106-115.
- Зубарь В. М., Седикова Л. В. 2008. История археологических исследований и некоторые итоги изучения южного района Херсонеса-Херсона. Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы IV Судакской международной конференции. Т. III. Киев; Судак: Академпериодика, 636-669.
- Ирмшер Й., Йоне Р. 1989. Словарь античности. Москва: Прогресс.
- Исанчурин Е. А., Исанчурин Е. Р. 1989. Монетное дело царя Радамсада. НЭ XV, 53-96.
- Колесников К. М. 2012. Римська вiйськова присутнiсть, гарнiзон Херсонеса та особливостi мiжнародно-правового статусу мiста в IV -V ст. Древности 2012. Харьковский историко-археологический ежегодник. Вып. 11. Харьков: НТМТ, 61-68.
- Ле Боэк Я. 2001. Римская армия эпохи Ранней Империи. B: Челинцева М. Н. (пер.). Москва: РОССПЭН.
- Лепер Р. Х. 1912. Херсонесские надписи. ИАК. Вып. 45. Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук, 23-70.
- Лопушинская Е. И. 1991. Крепость в Судаке. Киев: Будiвельник.
- Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. 2012. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического. Нартекс. Byzantina. Ukrainensis. Т. 1. Харьков: Майдан.
- Ростовцев М. И. 1907. Новые латинские надписи из Херсонеса. ИАК. Вып. 23. Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук, 1-20.
- Сорочан С. Б. 2003. Государственное устройство раннесредневекового Херсона и «призраки самоуправления». ВВ 62, 21-46.
- Сорочан С. Б. 2014. Византийские военные силы в Крыму в VI-VII вв. Stratum plus 6, 113-131.
- Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. 2001. Жизнь и гибель Херсонеса. Харьков: Майдан.
- Стратегикон Маврикия. 2004. B: Кучма В. В. (ред.). Санкт-Петербург: Алетейя.
- Тихонов В. А. 2014. К вопросу о римско-боспорской войне в сочинении «Об управлении империей» Константина Багрянородного. МАИАСК 6, 183-188.
- Фемистий. Речи. XXVII. О том, что следует обращать внимание не на места, а на людей. B: Латышев В. В. 1948. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ 3, 264.
- Фомин М. В. 2012. О гарнизоне Херсонеса в IV в. Материалы Х научной конференции «Ломоносовские чтения» и Х Международной научной конференции студентов, аспирантов, и молодых ученых «Ломоносов 2012». Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 104-105.
- Фомин М. В. 2015. О вооруженных силах Херсонеса в IV-V вв. Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. Харьков: НТМТ, 105-108.
- Фролова Н. А. 1997. Монетное дело Боспора (середина I в. до н.э. -середина IV в. н.э.). Ч. II. Монетное дело Боспора 211-341/342 гг. н.э. Москва: Эдиториал УРСС.
- Харматта Я. 1967. К истории Херсонеса Таврического и Боспора. Античное общество. Москва: Наука.
- Цукерман К. 1994. Епископы и гарнизон Херсона в IV веке. МАИЭТ IV, 545-560.
- Чореф М. М. 2014. Боспорское царство при Фофорсе: по нумизматическим данным. РАЕ 4, 323-365.
- Шангин М. А. 1938. Некоторые надписи Херсонесского музея. ВДИ 3, 72-87.
- Шелов Д. Б. 1950. Феодосийский клад боспорских «статеров». ВДИ 2, 134-139.
- Ярцев С. В. 2016. Имперская стратегия в Северном Причерноморье при императоре Константине Великом. B: Грацианский М. В., Кузенков П. В. (ред.). Империя ромеев во времени и пространстве: центр и периферия: тезисы докладов XXI Всероссийской научной сессии византинистов. Москва; Белгород: ООО «Эпицентр», 228-230.
- Baatz D. 1999. Katapulte und mechanische Handwaffen des spätrömischen Heeres. Journal of Roman Military Equipment Studies 10, 5-19.
- Barnes T. D. 1982. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press.
- Besniere M. 1937. L'Empire Romain de l'avenement des Severes du concile de Nicee. Paris: Presses Universitaires de France.
- Bury J. B. 1920. The Notitia Dignitatum. JRS. Vol. 10, 131-154.
- Dagron G. 1974. Naissance d'une Capitale. Constantinople et ses Institutions de 330 à 451. Bibliothèque byzantine, Éitudes 7. Paris: Presses universitaires de France.
- Duncan-Jones R. 1990. Structure and Scale in the Roman Economy. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
- edh-www.adw.uni-heidelberg.de: 1: Epigraphische Datenbank Heidelberg. URL: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD002533 (дата обращения: 01.11.2016).
- edh-www.adw.uni-heidelberg.de: 2: Epigraphische Datenbank Heidelberg. URL: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD062125 (дата обращения 01.11.2016).
- IOSPE I2: Latyschev B. 1916. Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Vol. I. Petropoli: Императорская академия наук.
- IOSPE V: Виноградов А. 2015. Древние надписи Северного Причерноморья. Т. 5. Византийские надписи. URL: http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/index-ru.html (дата обращения 11.11.2016).
- Méa C. 2014. La cavalerie romaine des Sévères à Théodose. Bordeaux: Université Michel de Montaigne.
- Mommsen Th. 1910. Das römische Militärwesen seit Diokletian. Gesammelte Schriften 6, 206-283.
- Nischer E. C. 1923. The Army reforms of Diocletian and Constantine and their modifications up to the time of the Notitia Dignitatum. JRS. Vol. 13. Iss. 1-2, 1-55.
- Pallas P. S. 1801. Bemerkungen auf einer Ryise in die südlichen Stattalters halten des Russichen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Leipzig: Gottfried Martini.
- Richardot Ph. 1995. Hiérarchie militaire et organisation légionnaire chez Végèce. La hiérarchie (Rangordnung) de l'armée romaine sous le Haut Empire (HRAR). Actes du Congrès de Lyon (15-18 septembre 1994). Paris: Yann Le Bohec, 405-426.
- Schmitt O. 2001. Stärke, Struktur und Genese des comitatensischen Infanterienumerus. Bonner Jahrbücher 201, 93-104.
- Tomlin R. 1972. Seniores-Iuniores in the Late-Roman Field Army. The American Journal of Philology. Vol. 93. No 2, 253-278.
- Tomlin R. 2006. The Mobile Army. B: Connolly P. Greece and Rome at War. London: Greenhill Books, 249-261.
- trajans-column.org: 1: Trajan's Column in Rome. URL: http://www.trajans-column.org (дата обращения: 01.09.2016).
- unienc.ru: 1: Электронная Универсальная энциклопедия. URL: http://unienc.ru/w/ru/764876-katapulta.html (дата обращения: 01.09.2016).
- Veget.: Vegetius. 2004. Epitoma rei militaris. B: Reeve M. D. (ed.). Oxford Classical Texts. Oxford: Oxford University Press.
- Zuckerman C. 1991. The Early Byzantine Strongholds in Eastern Pontus. TM 11, 527-553.