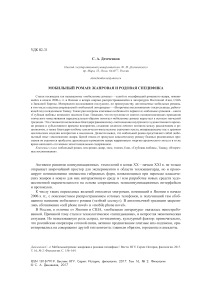Мобильный роман: жанровая и родовая специфика
Автор: Демченков Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена так называемому «мобильному роману» - одной из модификаций романного жанра, появившейся в начале 2000-х гг. в Японии и вскоре широко распространившейся в литературах Восточной Азии, США и Западной Европы. Материалом исследования послужили, по преимуществу, англоязычные мобильные романы, в том числе классика американской «мобильной литературы» - «Вторичные воспоминания» писательницы, работающей под псевдонимом Такацу. Также рассмотрены ключевые особенности первого из мобильных романов - книги «Глубокая любовь» японского писателя Еши. Показано, что отступление от многих основополагающих принципов эпического повествования парадоксальным образом помогает мобильному роману вернуться к истокам эпической традиции. Это становится возможным благодаря равновесному соотношению внутреннего художественного времени романа и субъективного времени восприятия, созданию иллюзии личного контакта между рассказчиком и реципиентом, а также благодаря особому циклически-импульсному строению текста, возвращающему нас к древним циклическим моделям восприятия и мышления. Делается вывод, что мобильный роман представляет собой любопытный опыт «омоложения» жанра. Ценой отказа от присущих классическому роману базовых родовидовых признаков он стремится пробудить дремлющую в романном жанре нарративную энергию архаического эпоса и в то же время наполнить его живым экзистенциальным содержанием.
Мобильный роман, sms-роман, жанр, эпос, эпопея, еши, "глубокая любовь", такацу, "вторичные воспоминания"
Короткий адрес: https://sciup.org/147219730
IDR: 147219730 | УДК: 82-31
Текст научной статьи Мобильный роман: жанровая и родовая специфика
Активное развитие коммуникационных технологий в конце XX – начале XXI в. не только открывает широчайший простор для экспериментов в области техноавангарда, но и провоцирует возникновение множества гибридных форм, появляющихся при переходе классических жанров в новую для них интерактивную среду и / или разработке новых средств художественной выразительности на основе современных телекоммуникационных интерфейсов и протоколов.
К числу таких переходных явлений относится sms-роман, возникший в Японии в начале 2000-х гг., с повсеместным распространением сотовых телефонов, и получивший там обобщенное название мобильного романа («кэйтай сесэцу»). В англоязычной традиции закрепились обозначения «cell phone novel» и «mobile phone novel».
В России, в отличие от Японии и США, «мобильная литература» оказалась невостребованной. Причиной тому стали и технологическое «запаздывание», и непростая экономическая ситуация. Но немаловажную роль сыграл, по-видимому, культурный фактор: примечательно, что российские операторы сотовой связи, активно продвигавшие платные sms-подписки, ориентировались на совершенно другой тип контента: главным образом, гороскопы и анекдоты.
Демченков С. А. Мобильный роман: жанровая и родовая специфика // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 2: Филология. С. 156–164.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 2: Филология © С. А. Демченков, 2017
Таким образом, словосочетания «мобильный роман» и «sms-роман» российскому читателю сегодня ни о чем не говорят. Крайне редко встречаются они и в специальных источниках. Поскольку никакой традиции их использования в отечественном литературоведении пока не установилось, мы будем в дальнейшем применять оба этих термина. Первый из них может показаться более расплывчатым и неопределенным, но тем не менее он (с учетом современных реалий) более точен, хотя второй, безусловно, будет интуитивно понятнее человеку, далекому от рассматриваемой проблематики.
Что же представляет собой sms-роман? Произведения такого типа рассылаются подписчикам на телефоны короткими фрагментами посредством sms-сообщений в течение нескольких недель или месяцев. Объем «главы» в них жестко ограничен технологическими лимитами сотовой связи и крайне редко превышает 200 слов (в среднем же составляет от 70 до 150). В том случае, если «глава» не вписывается в установленный для sms предел в 140 символов, она, как правило, разбивается на несколько сообщений, отправляемых одно за другим. Каждая из «глав», несмотря на предельный минимализм, представляет собой относительно завершенный в сюжетно-композиционном отношении отрезок текста.
Впрочем, довольно скоро – с появлением мобильных телефонов, поддерживающих выполнение Java-программ, а затем и полноценных смартфонов – sms-роман превращается в роман мобильный, и главным ограничителем становится не размер sms-сообщения, а полезная площадь экрана: хорошим тоном считается, чтобы «глава» отображалась на дисплее целиком, не требуя прокрутки текста. Периодичность рассылки «глав» мобильного романа может быть различной – в том числе и в зависимости от индивидуальных предпочтений читателя.
Можно предположить, что экспансия романистики в сферу «гаджетов» обусловлена поиском не столько новаторских художественных форм, сколько новых каналов дистрибуции, в равной степени привлекательных как для авторов, так и для читателей. Кроме того, современный потребитель «литературного контента» страшится эпического изобилия слов, предпочитая пить живительную влагу Кастальского ключа крошечными глотками. Мобильный роман ориентирован, прежде всего, на аудиторию, не приученную к книге, на носителей клипового мышления, для которых чтение даже нескольких страниц чистого текста подряд представляется утомительной и неинтересной задачей. Под давлением сходных прагматических, а отнюдь не эстетических соображений немногим менее пяти столетий назад состоялся переход от тиражирования путем многократного переписывания к использованию печатного станка. Однако именно эта технологическая революция прямо или косвенно спровоцировала появление огромного числа художественных инноваций.
Первым образцом мобильного романа, получившим широкую известность, стало произведение «Глубокая любовь» (2003), посвященное судьбе японской школьницы Аю, рано усвоившей меркантильный и циничный взгляд на жизнь, зарабатывающей проституцией, крадущей деньги у доверившейся ей пожилой женщины, но в глубине души остающейся трагически одиноким и беззащитным ребенком. Роман заканчивается смертью героини, заразившейся СПИДом.
Автор, скрывающийся под псевдонимом Еси (Еши), позаимствованным у симпатичного динозавра – одного из персонажей популярной игры для телевизионной приставки «Nintendo», – написал еще три романа в этой серии. Все они впоследствии были изданы в печатной версии, причем первый из них – рекордным суммарным тиражом в 2,7 млн экз. По мотивам книг Ёси были сняты телесериал и художественный фильм, а также выпущено множество так называемых «японских комиксов» (манга) 1.
На пике популярности «Глубокая любовь» собирала до 3 миллионов телефонных и до 50 миллионов e-mail подписчиков ежемесячно 2. К концу 2007 г. на специализированном сайте, публиковавшем «сотовые романы», число таких текстов приблизилось к миллиону 3.
Вслед за Японией, sms-роман покорил страны Восточной Азии (Китай, Южную Корею и др.), а затем добрался до США и Европы. Но подлинно культовым явлением он остался лишь в Стране восходящего солнца: и Новым, и Старым светом «cell phone novel» был воспринят с интересом, но без излишнего энтузиазма.
Одним из первых американских мобильных романов стали «Вторичные мемуары» («Secondhand Memories») (2008) писательницы японского происхождения Такацу (Takatsu), которые и сегодня занимают первую позицию в ТОП-10 англоязычных произведений этого жанра. Впервые роман был опубликован в «социальной сети для авторов и читателей» «Text Novel» 4, предоставляющей удобный интерфейс для электронного издания «телефонной литературы». В настоящее время на указанном сайте бесплатно доступны полные тексты этого и многих других популярных мобильных романов с разбивкой по главам.
«Вторичные мемуары» состоят из 1 060 небольших фрагментов (каждый объемом в 1–2 абзаца) и 2 послесловий; при переключении между ними, как правило, проходит несколько секунд, что помогает задать характерный для sms-романов прерывистый ритм чтения 5.
Ближайшим прототипом «мобильной литературы», безусловно, являются журнальные публикации, когда художественное произведение печатается частями на протяжении нескольких номеров (публикационный цикл составляет обычно от 3–4 месяцев до года и более). После выхода первых романов Диккенса такая модель «порционной подачи» текстов читателю доказала свою коммерческую состоятельность и вскоре окончательно прижилась в издательском деле.
Нельзя, впрочем, не отметить значительные количественные различия, обусловленные использованием принципиально разных технологических инструментов: при «мобильной» дистрибуции произведений, по сравнению с печатно-журнальной, отдельные «порции» текста оказываются меньше в сотни раз, а интервалы между их доставкой читателю – в десятки. Количественный фактор в данном случае имеет огромное значение, поскольку приводит к радикальной трансформации самих принципов письма.
Рассматриваемый нами тип текста глубоко синкретичен – как по своему существу, так и по своему происхождению. По словам Еси, к идее мобильного романа его привело желание сплавить воедино сильные стороны литературного повествования (с его динамикой и психологизмом), музыки (с ее потенциалом эмоционального воздействия) и визуальных искусств 6.
«Классический» sms-роман на первый взгляд имеет довольно опосредованную связь с традициями эпического повествования. Он, как правило, относительно невелик по объему, поскольку в противном случае читатель будет погребен под лавиной непрерывно поступающих сообщений и окажется не в состоянии нормально пользоваться телефоном. Sms-роман не предполагает связного последовательного повествования, включения в текст развернутых описаний и характеристик персонажей; его метод – это «точечная», предельно лаконичная и емкая фиксация событий и переживаний. В идеале единичное событие (или стадия его развития) должно быть исчерпывающе полно описано фразой объемом не более 140 знаков. Как следствие, «здесь не может быть и речи ни о длинных предложениях, <...> ни об использовании сложных грамматических конструкций» [Катасонова, 2012. С. 190].
Распространено мнение, что «мобильный роман» в силу перечисленных выше ограничений не в состоянии решать по-настоящему сложные художественные задачи и обречен оставаться одной из маргинальных форм массовой литературы. Укреплению таких взглядов способствуют и некоторые особенности, изначально присущие японской «мобильной словесности»: «Зачастую сырые и необработанные в литературном отношении, эти произведения создаются начинающими писателями в возрасте 20 лет или чуть старше и предназначаются специально для молодых людей, неразлучных со своими телефонами. Они обычно посвящены темам, о которых в Японии в силу особенностей культуры не принято говорить вслух, таких как секс, наркотики, беременность, изнасилование, аборты и т. д.» [Там же].
Действительно, «точечный» подход предельно затрудняет раскрытие внутреннего мира героя, лишает автора возможности детально проследить историю его духовного становления (что является необходимым условием развертывания романного сюжета). По способам обрисовки события и персонажа sms-роман намного ближе к лирике, чем к эпосу:
We walked in silence for a while.
The twinkling lights in the neighbourhood slowly one by one were snuffed out, like candles.
But yet, this was not a depressing thought. As people turned off their lights, the night would gently embrace everyone with peace.
Hush. The night was our lullaby.
I glanced at my handphone. It was 12 already. I hadn’t realized I had spent so much time in the hospital.
« It’s really late isn’t it? » I asked no one in particular.
Некоторое время мы шли молча.
Мерцающие огни вокруг медленно, один за одним, гасли, как свечи.
И все же эта мысль не угнетала. После того как люди выключат свет, ночь нежно и мирно обнимет их всех.
Тише! Эта ночь была нашей колыбельной.
Я взглянул на сотовый. Было уже 12. Я и не подозревал, что провел так много времени в больнице.
« Неужели сейчас и впрямь так поздно? » – это был вопрос, не адресованный никому конкретно (здесь и далее перевод наш. – С. Д.) 7.
Границы нормы – в том числе жанровой и родовой – всегда диффузны, и, наряду с собственно эпическими, лирическими и драматическими формами, можно выделить широкий спектр промежуточных явлений. Однако было бы не совсем верно рассматривать Аристотелеву триаду как плоскостную структуру – три геометрические области, имеющие пересекающиеся участки. Жанрово-родовые общности уместнее описывать как топологически сложные пространства, которые не всегда могут быть измерены в линейно-градуальных соотношениях «больше / меньше», «усиление / ослабление» [Федяева, 2003. С. 8]. Несмотря на то, что текст типичного sms-романа во многом строится по законам лирики и большинство его глав (если рассматривать их изолированно) чрезвычайно напоминают стихотворения в прозе, он все же не может быть без существенных натяжек отнесен ни к лирике, ни к лироэпике. «Ослабление» эпического начала по ряду параметров неожиданным образом ведет к его «усилению» – но уже по другим признакам.
Далее мы постараемся показать, что «мобильная литература» располагает принципиально новыми возможностями создания «эпического эффекта», недоступными литературе печатной.
Sms-роман цикличен, как цикличны природные процессы (суточный и годовой циклы, цикл рождения-смерти и т. д.), причем эта цикличность –неназойливая, но неизбежная, неустанно напоминающая о себе и не позволяющая читателю случайно «выпасть» из размеренного кругового движения (приливов и отливов слов), отрешиться от своей включенности в него. Сравнительно компактный текст, рассылаемый подписчикам небольшими фрагментами через некоторые промежутки времени (например, раз в сутки), субъективно начинает восприниматься ими как развернутое, масштабное повествование. Принудительные интервалы между сеансами чтения сглаживают «импульсное» движение sms-романа, уподобляя его размеренной эпической поступи, устанавливают неторопливый и размеренный ритм «скольжения» по тексту. Как и в древнем дописьменном героическом эпосе, подлинно эпическое время возникает здесь на стыке «внутреннего» художественного времени самого произведения и «внешнего» времени рассказывания.
В классическом романе соотношение художественного времени и субъективного времени рецепции, как правило, устанавливается не в пользу последнего: если описанные в книге события охватывают в среднем от нескольких дней до нескольких лет (хотя встречаются отклонения как в ту, так и в другую сторону), читатель затрачивает на ознакомление с ними от нескольких часов до нескольких дней. Таким образом, он движется вдоль сюжетного вектора в ускоренном темпе, причем ускорение может достигать многократных величин. Мобильный роман принудительно затормаживает время рецепции, выравнивая его с художественным временем и превращая его из произвольно регулируемого процесса в объективную и не зависящую от самого реципиента данность.
Читатель классического романа волен в своих поступках: он сам решает, как долго задержаться на том или ином участке произведения. Подписчик романа мобильного – узник, постоянно меняющий одну темницу-главу на другую и вынужденный «отбывать» в каждой из них определенный срок, вплоть до прихода очередной sms.
Однако такое ограничение читательской свободы приносит неожиданные плоды. Как уже отмечалось выше, каждая «главка» мобильного романа представляет собой относительно самодостаточный, сюжетно и композиционно замкнутый мини-текст, встраивающийся в состав целого, но способный функционировать в отрыве от него. Единичное событие или переживание, принудительно изъятое из своего непосредственного контекста, но сохраняющее с ним органическую связь, становится для реципиента своеобразным мирозданием в миниатюре. Вместо того чтобы линейно перемещаться по событийной магистрали, что неизбежно в ситуации последовательного непрерывного чтения, он движется вглубь события, раскрывающегося перед ним во все большей и большей полноте и смысловой насыщенности.
Вспомним характеристику, данную М. М. Бахтиным жанру эпопеи: «Абсолютное прошлое замкнуто и завершено как в целом, так и в любой своей части. Поэтому любую часть можно оформить и подать как целое. Всего мира абсолютного прошлого (а он и сюжетно един) не охватить в одной эпопее (это значило бы пересказать все национальное предание), трудно охватить даже сколько-нибудь значительный отрезок его. Но в этом и нет беды, ибо структура целого повторяется в каждой части, и каждая часть завершена и кругла, как целое» [1975. С. 474].
Отметим, что по сходному принципу строятся японские рэнга (цепочки соединенных по определенным правилам пятистиший танка ): в своей абсолютной сосредоточенности на хронологически ничтожном, но онтологически бесценном фрагменте внешнего (и одновременно – внутреннего) бытия индивида, они, достигая предела лирической концентрации, в то же время вплотную подходят и к пределам эпоса.
Явственные отголоски лаконичной, «смыслосгущающей» японской поэзии продолжают звучать и в англоязычных мобильных романах:
It was me and Aoi-chan now.
Our own little world.
It was awfully quiet without anyone but us. The lights were off so I soaked in the darkness.
I could see her sleeping face though, it was shining radiant beneath the moonlight.
Instead of turning on the lights, I threw open the curtains and let the soft moonlight through, casting silvery misty wisps through the room. The world was suddenly a hushed paint palette of monochrome.
This was Aoi’s world.
Это было наше с Аои-тян настоящее.
Наш собственный маленький мир.
Было очень тихо, и не было никого, кроме нас. Свет не горел, и я лежал погруженный во тьму.
Я мог видеть ее спящее лицо, ярко сияющее под луной.
Я не стал зажигать свет, а распахнул занавески, позволив мягкому лунному свету литься серебристыми туманными сгустками сквозь комнату. Мир внезапно угас до одноцветной палитры.
Это был мир Аои 8.
На первых этапах своего развития, приневоленный любой ценой укладываться в прокрустово ложе sms-рассылки, мобильный роман отказывается от многих художественных возможностей, жизненно необходимых эпическому повествованию, и активно обращается к лирическим техникам письма. Однако уже к середине 2000-х гг. эти некогда вынужденные меры осознаются авторами «телефонной» литературы как яркое конкурентное преимущество нового жанра, позволяющее решать исконно романные задачи при помощи исконно нероманных средств. В начале XX в. аналогичный переворот был совершен литературой «потока сознания», также стремившейся осуществить полную «перезагрузку» романного жанра и найти подлинно эпические способы постижения мира и человека за пределами родовых границ, очерченных теорией литературы.
Заметим, что произведения, опубликованные на издательской платформе «Text Novel» (в том числе и основополагающие для американской «мобильной литературы» «Вторичные мемуары»), изначально «проектировались» авторами с учетом механизмов интернет-дистрибуции и не предполагали непременной рассылки в sms-формате. Однако все каноны мобильного романа в них бережно соблюдены – но уже не в силу технологической детерминированности творческого процесса, а в соответствии с осознанной художественной необходимостью.
Возвращение к архаическим основам эпоса становится возможным и благодаря особой субъектной организации sms-романа. В литературной эпике автор, как правило, дистанцирован от реципиента: он не здесь, не сейчас и не с нами. Словесность выработала приемы, позволяющие сузить – но не преодолеть – эту дистанцию. В дописьменной словесной традиции и в фольклоре личный контакт слушателя с рассказчиком, напротив, играет решающую роль. Как и во всяком исполнительском искусстве, личность «рапсода» здесь перестает быть внешним, «экстралитературным» фактором – она проникает в сам текст, вступая в сложный симбиоз с имеющимися в его структуре субъектными инстанциями и наполняя их живым экзистенциальным содержанием.
В литературе читатель самостоятельно открывает для себя «врата» текста при помощи разработанных автором суггестивных механизмов; в дописьменных формах словесного искусства у текста есть «привратник», который и отвечает за процесс погружения слушателя / наблюдателя в художественную реальность.
Мобильный роман соединяет в себе черты, присущие фольклору и традиционной «книжной» словесности. С одной стороны, это опосредованное взаимодействие автора и реципиента: первый – как рыцарь забралом шлема – надежно скрыт от последнего экраном мобильного телефона. С другой, эмоционально окрашенная sms-переписка с зачаточными элементами нарратива для многих (в особенности – для молодежи) становится сегодня более естественной формой общения с близкими людьми, чем личная встреча. Случаи, когда друзья, родственники, коллеги, находясь в одном здании, предпочитают переписываться посредством мессенджеров или sms, вместо того чтобы подняться на соседний этаж, уже не воспринимаются как анекдотичные.
С точки зрения современного читателя в возрасте от четырнадцати до сорока, мобильный роман представляет собой настолько полную и достоверную иллюзию живого контакта с собеседником, насколько это вообще возможно (особенно, если повествование в нем ведется от лица героя). Традиционные повествовательные модели, напротив, нередко воспринимаются таким читателем как условные и далекие от реальности.
Повествователь sms-романа перестает быть собственно литературной инстанцией: он покидает границы текста и обосновывается в окружающей нас действительности, балансируя на тонкой грани реального и виртуального пространств. Подчеркнем: речь идет не о биографи-
ческом авторе. Последний, напротив, нередко уходит в тень, чтобы не лишать романного повествователя его мнимо-реального существования: избегает интервью, не предоставляет развернутых биографических данных, не раскрывает свое подлинное имя и т.п.
Впрочем, установка на достоверность реализуется в «телефонной литературе» и при помощи вполне традиционных приемов. Ссылаясь на японского исследователя Енэмицу Кадзунари, Д. А. Махнёва отмечает, что непременным атрибутом «кэйтай сесэцу» является указание на то, что его сюжет имеет реальную подоплеку [2010].
В заключение коснемся еще одной немаловажной особенности мобильного романа, связанной с магистральными культурно-философскими тенденциями второй половины XX – начала XXI в.
Печатный или рукописный текст материально конкретен: он замкнут в тесное пространство книжного переплета и представляет собой часть вещественной реальности – его можно взять в руки, поставить на полку, купить или продать [Барт, 1989. С. 415, 420]. Живое звучащее слово неуловимо, мы не имеем над ним никакой власти: оно приходит к нам само, и само, не дожидаясь ничьего позволения, нас покидает.
Диалог с книгой – это диалог с пленным собеседником. Постструктуралисты впервые, пожалуй, с полной очевидностью осознали субъектную ущербность литературы. В безграничном и многомерном пространстве Тотального текста есть только один полноправный субъект – реципиент. Автор пантеистически растворяется в этой безмерности: Текст вбирает его в себя как семиотический материал, но не как индивида, обладающего страстью, волей и желанием.
Культура последних десятилетий настойчиво стремится найти выход из постмодернистского тупика – тотального одиночества читателя в Тотальном тексте. Слово все меньше интересует ее как знак и все больше – как интенция. В творческой деятельности главенствующую роль получает не текст, а личность (даже если она не производит никаких художественно значимых текстов). Значение эстетической составляющей в искусстве постепенно ослабевает, значение коммуникативной – усиливается.
Одной из приоритетных задач сегодня становится поиск полисубъектного пространства диалога, которое могло бы выступить альтернативой привычному литературно-художественному «континуму». На этот статус претендуют, прежде всего, социальные сети и блогосфера, которые с каждым годом сосредоточивают в себе все больший процент словесно-творческой активности. Мобильный роман, вызванный к жизни теми же культурными процессами, что и «Живой журнал», «Твиттер» и «Фейсбук», едва ли сможет когда бы то ни было с ними конкурировать, однако он ничуть не менее значим для осмысления тех масштабных трансформаций, которые совершаются сейчас в сфере словесности.
Подведем некоторые итоги.
Мобильный роман представляет собой любопытный опыт «омоложения» жанра. Подобно литературе «потока сознания», он ценой отказа от присущих роману базовых родовидовых признаков стремится пробудить дремлющую в нем нарративную энергию архаического эпоса и в то же время наполнить его живым экзистенциальным содержанием. Художественный потенциал этой новаторской повествовательной модели представляется несомненным. Однако последовательная ориентация на запросы массового читателя, к сожалению, делает мобильный роман не самым благодатным полем для плодотворных экспериментов, которые могли бы во многом определить дальнейший ход литературного процесса.
Список литературы Мобильный роман: жанровая и родовая специфика
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 810 с.
- Катасонова Е. Л. Японцы в виртуальном пространстве // Япония: экономика и общество в океане проблем. М.: Вост. лит., 2012. C. 177-193.
- Махнёва Д. А. Новый литературный жанр кэйтай се:сэцу как социокультурное явление // Актуальные проблемы изучения Японии и японского языка. Материалы Второго Сибирского симпозиума 26-28 марта 2010 г. Новосибирск, 2010. С. 70-76. URL: www.ru-jp.org/makhneva_110227.htm (дата обращения 22.01.2017).
- Федяева Н. Д. Языковой образ среднего человека в аспекте когнитивных категорий градуальности, дуальности, оценки, нормы: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2003. 24 с.