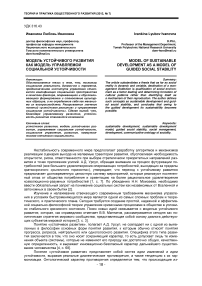Модель устойчивого развития как модель управляемой социальной устойчивости
Автор: Иванкина Любовь Ивановна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 7, 2012 года.
Бесплатный доступ
Обосновывается тезис о том, что, поскольку социальная реальность динамична и переменна, предназначением института управления становится квалификация социального пространства в качестве фактора, опережающего и обусловливающего формирование и становление культурных образцов, а не определение себя как механизма их воспроизводства. Раскрывается значение понятий «устойчивое развитие» и «управляемая социальная устойчивость». Сделан вывод, что, благодаря управляемому развитию, устойчивость развития становится возможной.
Устойчивое развитие, модель устойчивого развития, управляемая социальная устойчивость, социальное управление, развитие, коммуникативная онтология социальности
Короткий адрес: https://sciup.org/14934508
IDR: 14934508 | УДК: 316.43
Текст научной статьи Модель устойчивого развития как модель управляемой социальной устойчивости
Нестабильность современного мира предполагает разработку алгоритмов и механизмов реализации сценария выхода на желаемые траектории развития, обусловливая необходимость открытости, риска, ответственности при выборе стратегически приоритетных направлений развития и точек приложения усилий. А.Д. Урсул, обращая внимание на процесс футуризации потребностей (все большего удовлетворения опережающих потребностей, выходящих за пределы краткосрочного «рыночного горизонта»), утверждает, что переход к устойчивому развитию предполагает долговременную целостную систему мероприятий, которые реализуют постепенный отказ от общества потребления и ориентацию на более рациональное удовлетворение коэволюционно-разумных потребностей [1, с. 7]. По убеждению Н.Н. Моисеева, необходимо ввести обязательный запрет на понимание социальных систем как независимых от Вселенной и автономных в своем бытии [2].
Изучение и налаживание отвечающего современным требованиям механизма управления в условиях быстроменяющегося мира является одной из самых сложных проблем и теоретического, и практического плана. Сегодня требуется создание простой, надежной и эффективной социально-философской теории управления кризисными процессами в обществе в условиях стабильного кризисного состояния. Поиск новых идей связывается с моделью устойчивого развития, которая, как справедливо отмечает В.В. Мантатов, рассматривается сегодня как политическая стратегия мирового сообщества, представляющая собой основу диалога действующих субъектов мировой истории [3, с. 3].
Понятие «устойчивое развитие», полагает А.Д. Урсул, не совпадает ни с одной из выявленных в философии основных форм понятия развития, к которым обычно относят понятия прогресса, регресса, нейтрального или однополосного развития. Специфика этого типа развития заключается в том, что оно носит сохраняющий характер, то есть допускает лишь те изменения объекта (системы), которые не изменяют его природу как достаточно общую, качественную определенность, и выражает инновационно-безопасный характер дальнейшего существования человечества [4, с. 68].
Понятие «устойчивое развитие» представляет собой синтез идеи изменений и идеи устойчивости, выражая реальные диалектические противоречия, а также тенденцию к их гармонизации. Онтологический характер противоречия определяется тем, что происходящие из- 18 - менения имеют определенные рамки, поставленные самим бытием человека. Как справедливо замечает В.В. Мантатов, «изменения и инновации опасны, если они выходят за пределы устойчивости социальных и природных систем» [5, с. 81]. В условиях нарастающей нестабильности важным синергетическим принципом управления выступает сбалансированность подхода к решению экономических, социальных, экологических проблем современности на основе принципа предосторожности.
Благодаря инерционности социальных систем, обусловленной наличием сознательной деятельности и социальной памяти, ни одно кризисное состояние общества не является абсолютно неустойчивым. Чаще всего, цель для социальных систем состоит в следовании определенному направлению развития, приводящему к динамически устойчивому целевому состоянию, а не только в достижении конкретного состояния. Возможные направления развития системы соответствуют некоторым целевым состояниям-аттракторам, что означает возможность прогнозирования траектории эволюции общества с точностью до конкретной области изменения параметров.
Современные научные и философские исследования дают основания для выдвижения концепции интегрального управления социумом и человеком. В связи с этим заслуживает внимания модель культуры как игры, выдвинутая С. Лемом. Культура имеет люфт (полосу свободы) в отношении природы, что объясняет существование культурно изменяемых форм и символов. Об этом С. Лем пишет так: «Стохастическая модель культурогенеза предполагает, что полоса свободы, которую мир оставляет в распоряжении эволюционирующего общества, уже выполнившего долг адаптации, то есть набор непременных заданий, заполняется комплексами поведений, поначалу случайными. Однако со временем они застывают в процессах самоорганизации и перерастают в такие структуры норм, которые формируют внутрикультурный образец «человеческой природы», навязывая ему схемы долженствований и повинностей. Человек (особенно в начале своего исторического пути) врастает в случайности, которые и решают, каков будет он и его цивилизация. Отбор альтернатив поведения – в сущности, лотерея, но это не значит, что столь же лотерейна композиция того, что получится» [6, с. 51–52].
В обществе может выполняться принцип устойчивости Ле-Шателье, и оно может находиться в состоянии динамического равновесия, когда внутренние процессы могут компенсировать внешние воздействия, но с оговоркой, что это справедливо для фазы бесконфликтного существования общества. В ситуации кризиса этот принцип не действует, и тогда встает вопрос об интегративном моменте в обществе – его смыслообразующей компоненте.
Особенность системы, пребывающей в устойчивом состоянии, заключается в том, что ее элементы инвариантны и ведут себя независимо друг от друга, каждый из них как бы игнорирует остальные. Такое пассивное поведение элементов системы названо в синергетике «гипнонами». Главное следствие гипнонной ситуации в том, что исчезает когерентность процессов, а затем начинается их торможение и остановка. Когерентность означает согласованное во времени протекание процессов, благодаря чему они могут давать эффект интерференции, то есть взаимное усиление или ослабление, что является необходимым условием перевода системы в режим самоорганизации. В условиях гипнонной ситуации при отсутствии объективной когерентности самыми актуальными проблемами являются проблемы управления.
Переход в неравновесное состояние пробуждает гипноны, заставляет их адаптироваться к новым условиям, устанавливать когерентную связь, что происходит на современном этапе, когда управление процессом уже не решает проблему изменений системы и она производит самостийный поиск их решения. На этом этапе у субъектов нет возможности объективного выбора социальной группировки, и люди объединяются с теми, с кем они объединены естественными узами – традицией, языком, верованием, стилями жизни. В спор вступают не интересы и убеждения, а привычки, представления, эмоции, ценности, что еще больше усиливает стохастичность протекающих процессов. И, тем не менее, в условиях неравновесности, когда образцы прошлого перестают действовать, каждый из субъектов реальности должен инновациироваться. К освоению новых источников энергии, новых форм деятельности, выработке новых стандартов отношений, в целом к модернизации способны немногие. Те, кто первыми адаптируются к новой реальности, становятся новыми фокусами, узлами, энергетическими центрами новой реальности и в этом качестве выступают резервом, аттрактором настройки для остальных. Возникает новая когерентность социокультурных процессов.
В условиях нестабильности и риска задача субъекта управления состоит в том, чтобы максимизировать набор обстоятельств, которые он может контролировать, и минимизировать те обстоятельства, которые ему контролировать не удастся. Для этого субъект управления должен обладать рациональной основой для принятия благоразумных решений в условиях риска, позволяющей сравнивать различные варианты действий и выбирать тот, который наиболее полно соответствует целям, оценкам и системе ценностей. Поведение, основанное на отказе от рациональности, будет хаотичным и непродуктивным. Как утверждает Э. Гидденс, посредством механизма социальной рефлексии наш уникальный жизненный опыт сохраняется и подсоединяется к коллективному знанию, и, в свою очередь, – к социальной структуре.
Как можно заметить, базовым, стержневым основанием управляемого развития выступают когнитивные процессы, благодаря чему социальное управление стало возможным в принципе. Растущая социальная креативность, как способность общества конструировать себя, связана с возрастанием роли сознательного (субъективного и идеального) фактора в социальноисторическом процессе, когда общественное сознание всецело определяет общественное бытие, таким образом, здесь реализуется философский принцип тождества мышления и бытия – субъекта и объекта.
Избежать неустойчивости позволяет диверсификационный потенциал фонда многообразных культурных образцов, способных составить желательную альтернативу стареющему репликатору, предлагая широкий выбор вариантов в оперативной памяти культуры. Согласно концепции устойчивого развития, считает В.В. Мантатов, устойчивое развитие должно быть осознано и понято как нравственно-историческая задача, ибо «в глубинных своих истоках устойчивое развитие общества совпадает с духовно-нравственным совершенствованием человека, укорененным в трансцендентных условиях бытия» [7, с. 67]. Данное условие обеспечивается самим управлением коммуникативным объектом как воздействием на объект, при котором требуется междисциплинарный взгляд – взгляд во все стороны одновременно, а также умение выбрать пространство, сферу наиболее эффективного воздействия при использовании особой методологии принятия решений, риска и вероятностного поиска.
Возможность социального управления в условиях нестабильности метафорически можно сравнить с символом рук на гравюре Мориса Эшера, рисующими самих себя, замкнутыми друг на друга таким образом, что непонятно, какая из них реальная. Возникает динамический кольцевой паттерн – самоорганизованный процесс, подобно «ленте Мебиуса», где один гештальт (в переводе с немецкого «gestalt» означает «образ, сущность, форма, структура, завершенная конфигурация») как цель-аттрактор вызывает из мира представлений другой ему подобный.
Чтобы поддерживать свою целостность, периодически преодолевать тенденцию к стохастическому распаду, сложная система должна существовать в колебательном режиме, позволяющем замедлять процессы и устанавливать общий темп развития внутри сложной структуры. В плане поиска и обоснования механизмов интеграционного взаимодействия социальных систем, повышающих их совместную устойчивость, интерес представляет теория коммуникативного поведения Ю. Хабермаса, дополняющая и развивающая концепцию аутопойезиса Н. Лу-мана. Совместная устойчивость достижима через обеспечение единства качественно различных социальных систем на основе коммуникаций, что в современной трактовке, по сути, выражается идеей коэволюции социальных систем. Коммуникативный разум, как отмечает Ю. Хабермас, «непосредственно вовлечен в происходящий в обществе процесс; акт взаимопонимания начинает выполнять функции механизма координации действий. Совокупность коммуникативных действий подпитывается ресурсами жизненного мира и одновременно образует среду, воспроизводящую конкретные жизненные формы» [8, с. 326].
Управление, включаясь в процесс изменения социальной системы, влияет на продление жизни сложной структуры и выступает аттрактором эволюции социальных систем, фиксирующим ценную для саморазвивающихся систем (природа, человек, общество, Вселенная) информацию. Общество в своем поступательном развитии проходит через пределы, которые возникают в результате насыщения традиционных и появления новых социальных потребностей, инициирующих структурный сдвиг. Объективные предпосылки модернизационной трансформации реализуются через субъективно направляемую деятельность людей и социальных групп. Как справедливо утверждает В.К. Петросян, «все общественные образования прошлого, настоящего и будущего – результат свободной целенаправленной деятельности человека» [9, с. 45].
Более того, субъективный компонент модернизационных предпосылок может существенным образом влиять на сроки начала социальной модернизации, ее продолжительность и результаты. Именно субъективный компонент отражает конкретно-историческую напряженность и содержание притязаний общества к существующему социальному порядку, отвечает за выбор из многих вероятных перспектив конкретных ресурсов и технологий достижения нового желаемого общественного состояния.
Среди основополагающих духовно-нравственных универсалий, выступающих фактором обеспечения устойчивого развития, особое место занимает справедливость. Ядро справедливости составляет идея меры, соответствия, соразмерности, то есть моральная интерпретация. Философский дискурс справедливости связан с отнесением ее к абсолютному космическому закону, действующему в живой и неживой природе. Нарушение принципа сбалансированности и меры обусловливают действие тенденций возмездной справедливости, когда вопрос относительно самой возможности существования человечества резко обостряется. В связи с этим А.Д. Урсул предлагает в качестве одного из методов обеспечения устойчивого развития формирование биосферного (ноосферного) гуманизма, который не принижал бы ценность жизни на Земле и отрицал бы право человека на безнаказанное ее уничтожение.
Поскольку общество есть система коммуникативно-смысловая (Н. Луман), ее системообразующими элементами являются, прежде всего, смыслы и ценности, разделяемые социальными акторами, и играющие роль параметров порядка для субъектов социального действия. Ценности, превращаясь в убеждения и мотивы поведения в результате рефлексии, способствуют духовно-нравственному становлению человека. Рефлексия этих смыслов является внутренней операцией системы, создающей новую основу или точку отсчета для наблюдения тех изменений, которые происходят в современном обществе.
Среди ценностей устойчивого развития важными являются такие, как переход от доверия (зачастую – веры) в правильность решений, принятых другими, к требованию их всесторонней аргументированности, что предполагает допущение инакомыслия; отказ от двуполюсной (черно-белой) картины мира в пользу восприятия оттенков, противоречий, несоответствий, нюансов в самых различных социальных явлениях, навыков большей когнитивной сложности; принятие идеи возможного плюрализма не только мнений, но и решений, отказ от абсолютизации тезиса о возможности единственно правильного решения, следовательно, повышение собственной ответственности за сделанный выбор.
Важно непрерывное функционирование как прямых, так и обратных связей объекта и субъекта социального управления, причем субъект социального управления должен найти меру взаимодействия этих связей, определить степень их оптимального сочетания, что гарантирует управленческий эффект. При этом необходимо стремиться к возможно более полному и точному воспроизведению объекта со всеми его противоречиями: чем адекватнее это воспроизведение объекта субъектом управления, тем эффективнее и результативнее деятельность последнего по практическому решению управленческих задач.
Общество, помещенное в контекст коммуникативной онтологии, рассматривается как переплетение, сцепление, взаимодействие различных сфер, но не в итоге и результате происходящих процессов, а в самой процессуальности, где итогов как устойчивых нет, ибо коммуникации не останавливаются, и их природа – движение. То, что может фиксировать коммуникативная онтология, – это разрывы между состояниями, отношениями между тем, что было и становится другим, само отношение, само «между». Реальность представляется как система непрерывных процессов, в которой основной процесс взаимодействует с сопряженными, осуществляя обмен информацией, энергией, веществом. В такой реальности, где все есть процесс, внешний наблюдатель заменяется самотрансцендирующим субъектом, который может быть понят лишь в конкретном диалоговом контексте, где в процессе диалога между его участниками рождается новый смысл. Процесс объяснения бытия становящегося приобретает характер смыслопорождения. При этом смысл не принадлежит бытию, как у М. Хайдеггера, или субъекту, как у И. Канта, а образуется в промежутке, не в пустоте, а в слиянии, во взаимодействии, в синтезе бытия и сознания.
Чтобы социальность состоялась, необходимо взаимопонимание. Результатом эффективного общения, как правило, является сдвиг, трансформация общественного сознания (новое видение и понимание, другое состояние духа – воодушевление, уверенность, уныние и т.п.), что в дальнейшем является необходимым условием перестройки социально значимого поведения. В этом смысле общество напряжено (структурировано) силовыми линиями поля социума, куда всегда возвращаются общающиеся, чтобы продолжать функционирование в соответствующих институтах. Но одновременно само общество есть своеобразное поле, силовые линии и напряженности которого задаются «здесь и сейчас» текущим взаимодействием (общением) всех участников.
Потребность иметь правильное представление реальности приводит к формированию общих норм и групповой структуры, когда последствия поступков расцениваются преимущественно в контексте оценки, а не с точки зрения их содержания. Это обусловливает появление стилизованного поведения, обеспечивающего модальную образцовость и обязательность, что позволяет индивиду не думать всякий раз, как поступать в подобных ситуациях, поведение освобождается от рефлексии. Процесс институционализации сущностных сил человека (Г.В.Ф. Гегель) закрепляется в феномене общества как обобществлении индивидов (Г. Зиммель).
Возможность приходить к общим целям актуализирует рефлексию. Человек живет в изменяющейся области описаний, которую он порождает путем рекурсивных взаимодействий в этой сфере. Регулирование взаимодействий рождает мораль, возникающую в результате дис- курса – обсуждения людьми того, что же будет нормами, которые будут регулировать принятие решений, и побуждающую индивида оценивать происходящее с позиции других людей. И именно с движением людей к определенным, значимым для них целям связывает К. Поппер ход человеческой истории [10, т. 2].
В условиях, когда нет единственной истины, рациональностъ понимается как диалог человека с миром, возможность которого зависит от открытости сознания к разнообразию подходов, к тесному взаимодействию (коммуникации) индивидуальных сознаний. Любое действие не может осуществляться в логической чистоте и изоляции отдельного субъекта от поведения других субъектов, что во многом влияет, изменяет, обусловливает его целевые установки и ориентации. Субъекты действия не ориентированы на однозначность результата, поэтому именно в этом плане становится необходимым выработка дискурса таких форм действий, которые ориентированы на диалог, а не на властные решения, при котором учитываются не только логические доказательства, но и эстетические, морально-ценностные, психологические факторы.
В построении и поддержании жизненного мира человека коммуникативное действие выполняет троякую функцию: осуществляет символическое конструирование и воспроизводство знаний и ценностей (культурный аспект); устанавливает легитимные порядки (социальный аспект); формирует субъекты (субъективно-личностный аспект). Посредством конвенциональных, разделяемых с другими значений, моделей, используемых для упорядочения собственного практического опыта, человек приобретает общую когнитивную ориентацию – интерсубъективность. Институализировавшаяся в конвенциональную модель управленческая деятельность получает статус цивилизационной структуры, обеспечивающей поддержание динамического баланса интересов. Сам процесс понимания происходит в результате взаимных притязаний на истинность субъективных высказываний, поскольку люди действуют на основе несовершенного понимания и не владеют конечной истиной.
Социальное представление является идентификационной матрицей, принятой в культуре системой значений и символов. Социальный мир предстает при этом не как противостоящий человеку, но как построенный (сконструированный) им. Интенциональный опыт человека (предпочтения, убеждения, умонастроения), являясь одним из источников интуиции, определяет направленность и избирательность его интеллектуальной активности. Способ принимаемого решения – разглядывание, особенно в затруднительных ситуациях, когда нужно сначала «разглядеть» выход, а не действовать импульсивно. Развитие социального управления с учетом многофакторности влияний делает его интеллектуально насыщенной деятельностью. Рефлексия смыслов и ценностей, разделяемых социальными акторами, и играющих роль параметров порядка для субъектов коммуникативного действия, является внутренней операцией системы, создающей новую основу, или точку отсчета для наблюдения тех изменений, которые происходят в современном обществе.
Обратим внимание на еще одно проявление синергизма в коммуникации. Коммуникация у Ю. Хабермаса трактуется как способ организации через сообщества, ставящие своей целью интерпретировать ценности. Поскольку общество есть система коммуникативно-смысловая, ее системообразующими элементами являются, прежде всего, смыслы и ценности, разделяемые социальными акторами, и играющие роль параметров порядка для субъектов социального действия. Рефлексия этих смыслов является внутренней операцией системы, и, следовательно, она создает новую основу или точку отсчета для наблюдения тех изменений, которые происходят в современном обществе.
Состояния, потенциально существующие за точкой неустойчивости, предопределяют будущее системы и создают при этом неопределенность, оставляя окончательный выбор за самой системой. Здесь возникает граница между управленческими возможностями внешнего субъекта и внутренними силами самоорганизации системы. Инновационные изменения в системах с динамической сложностью трудно предсказуемы, так как причины и следствия связаны кольцевым способом и могут быть несопоставимы по своим эффектам. Задача социального управления в этом контексте может быть методологически решена как задача управления когнитивными процессами социума, его смыслопорождающей деятельностью и рефлексией.
В коммуникациях и технологичности социальность перестала быть для субъекта внешней, как человеческая имманентная конструкция она постоянно меняется, развивается, становится. В условиях, когда утрачивается целостность социальности, целостность управления сохраняется. Это качество управленческой деятельности позволяет выделять в любой социальной системе управленческие процессы, а также рассматривать управление как фактор преобразования социальной и жизненной среды социума. В управлении одновременно соединяются функция сохранения традиций и культурных основ общества и функция потенциального общественного развития, социальных изменений и инноваций.
В целом, риск в современном мире обретает свойство специфического ресурса, способного повысить степень устойчивости социального объекта, действующего в условиях неопределенности. И именно благодаря управляемому развитию, устойчивость развития становится возможной. Социальное управление, таким образом, является онтологическим концептом, фиксирующим измерение самой социальной реальности, преломляющимся в процессах модернизации.
Ссылки:
-
1. Урсул А.Д. Экологическая безопасность и устойчивое развитие // Гос. упр. ресурсами. 2008. № 11.3: спец. вып. (нояб.). С. 1–13.
-
2. Моисеев Н. Н. «Устойчивое развитие» или «стратегия переходного периода» // ЭКОС-информ. 1995. № 3/4. С. 45–56.
-
3. Мантатов В.В. Теория устойчивого развития: онтология и методология. Улан-Удэ, 2009.
-
4. Урсул А.Д. Ноосферная модель науки и образования // Социально-политический журнал. 1996. № 4. С. 68–77.
-
5. Мантатов В.В. Указ. соч.
-
6. Лем С. Модель культуры // Вопросы философии. 1969. № 8. С. 49–62.
-
7. Мантатов В.В. Указ. соч.
-
8. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003.
-
9. Петросян В.К. Понятие и сущность ноократического общества // Вопросы философии. 2002. № 10. С. 25–31.
-
10. Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. М., 1992.
Список литературы Модель устойчивого развития как модель управляемой социальной устойчивости
- Урсул А.Д. Экологическая безопасность и устойчивое развитие//Гос. упр. ресурсами. 2008. № 11.3: спец. вып. (нояб.). С. 1-13.
- Моисеев Н. Н. «Устойчивое развитие» или «стратегия переходного периода»//ЭКОС-информ. 1995. № 3/4. С. 45-56.
- Мантатов В.В. Теория устойчивого развития: онтология и методология. Улан-Удэ, 2009.
- Урсул А.Д. Ноосферная модель науки и образования//Социально-политический журнал. 1996. № 4. С. 68-77.
- Мантатов В.В. Указ. соч.
- Лем С. Модель культуры//Вопросы философии. 1969. № 8. С. 49-62.
- Мантатов В.В. Указ. соч.
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003.
- Петросян В.К. Понятие и сущность ноократического общества//Вопросы философии. 2002. № 10. С. 25-31.
- Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. М., 1992.