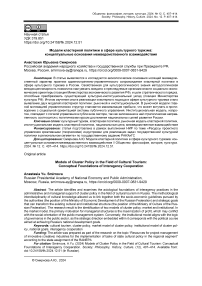Модели кластерной политики в сфере культурного туризма: концептуальные основания межведомственного взаимодействия
Автор: Смирнова Анастасия Юрьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются и исследуются аксиологические основания носящей межведомственный характер практики административно-управленческого сопровождения кластерной политики в сфере культурного туризма в России. Свойственная для культурологического знания методологическая междисциплинарность позволила нам увязать воедино и преследуемые органами власти социально-экономические ориентиры (позиция Министерства экономического развития РФ), и цели стратегического порядка, способные преобразовать существующий культурно-институциональный уклад (позиция Министерства культуры РФ). Итогом изучения опыта реализации кластерного подхода в сфере культурного туризма стало выявление двух моделей кластерной политики: рыночной и институциональной. В рыночной модели главной мотивацией управленческих структур становится максимизация прибыли, что может вступать в противоречие с социальной ориентацией системы публичного управления. Институциональная модель, напротив, совпадает с логикой управления в публичном секторе, так как заложенная в ней стратегическая направленность соотносится с политическим курсом достижения национальных целей развития России.
Культурный туризм, кластерная политика, рыночная модель кластерной политики, институциональная модель кластерной политики, национальные цели, межведомственное взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/149147095
IDR: 149147095 | УДК: 379.851 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.51
Текст научной статьи Модели кластерной политики в сфере культурного туризма: концептуальные основания межведомственного взаимодействия
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия, ,
Moscow, Russia, ,
Введение . В современной административно-управленческой практике вопросы развития туризма преимущественно рассматриваются в экономико-центристском контексте. Такое положение дел находит выражение как в отраслевых стратегических документах, в которых основное внимание отводится задачам социально-экономического развития регионов1, так и в разграничении вопросов ведения между органами власти. До 2018 г. отрасль находилась в орбите проводимой Министерством культуры РФ политики, после была отдана в ведение Министерства экономического развития РФ, в связи с чем социально-гуманитарный ракурс, связанный с культурнопросветительской, мировозренческой, коммуникативной и интегрирующей функциями туризма, а также пониманием специфики вовлечения в экономический оборот объектов материального и нематериального культурного наследия, отошел на второй план. На первый же вышли задачи обоснования экономической целесообразности принимаемых управленческих решений и соответствующего подбора инструментов для развития туризма как отрасли экономики. В данной парадигме отдельные виды туризма, в том числе культурный (культурно-просветительский), представляют собой лишь часть рыночного предложения и оказываются не способны реализовать в полной мере свой социокультурный потенциал. Эти же ценностно-целевые установки распространяются и на практику применения кластерного подхода в области культурного туризма, устанавливающую превалирование экономических эффектов над социокультурными. В этом и проявляется отмечаемый многими исследователями риск коммодификации культуры, то есть ее трансгрессии из «сферы моделирования идеальных состояний в развлекательный бизнес» (Астафьева, Малыгина, 2022: 23), что оказывается справедливым и по отношению к культурному туризму. Как следствие, мы предлагаем подойти к изучению данной темы в рамках присущей для культурологического знания междисциплинарности, обозначая в качестве центрального вектора вносимый туризмом вклад в формирование благоприятного культурного ландшафта.
В современной экономико-центристской практике распространен институциональный подход к определению термина «кластер». В основе данного подхода лежат как идеи М. Портера о кооперации предприятий одной или смежных областей для формирования национальных конкурентных преимуществ, так и ключевые постулаты экономического институционализма, вводящего в научный дискурс насущный вопрос о возможностях осуществления управленческого воздействия в отношении социально-экономических процессов (Кощеев, Исопескуль, 2021: 15-19). Это позволяет рассматривать кластер не просто как форму интеграции субъектов экономической деятельности в одну производственную цепочку в целях экономии за счет масштаба, сокращения трансакционных издержек и повышения конкурентоспособности отрасли или групп отраслей, но и как реальный инструмент управления социально-экономическим развитием территорий со стороны разнообразных социальных институтов.
В русле обозначенной логики выявляются перспективы для дальнейшего исследования основ теоретико-методологического и организационно-правового сопровождения управления кластерами на всех этапах жизненного цикла в привязке к целям и приоритетам государственной политики, а также к реальным вызовам, с которыми сталкиваются российские регионы (Чимирис, Осокина, 2023). При этом изучение поднимаемых вопросов должно не ограничиваться обращением к предметной области государственного и муниципального управления, а, скорее, охватывать всю сферу социального управления. Вводя в кластерную теорию в качестве центральной темы проблематику регионального и/или территориального развития, мы неизбежно оказываемся перед необходимостью учета мнений и интересов местного населения, различных групп общественности и хозяйствующих субъектов. Это расширяет наше представление о составе субъектов управления, к которым оказываются отнесенными не только органы публичной власти, но и представители общественного и коммерческого секторов, а также о формах организации совместной деятельности по достижению общезначимых целей регионального и/или муниципального развития (Силичева, 2023: 39).
Предложенные уточнения могут найти свое применение и в модели ромба конкурентных преимуществ страны М. Портера, центральными элементами которой становятся исключительно рыночные факторы: производственные ресурсы, поддерживающие отрасли, спрос, предложение и конкуренция (Портер, 2016: 111-113). В то время как фактор управленческого воздействия со стороны государства рассматривается как сопутствующее условие, которое не может кардинально изменить существующую конъюнктуру и волевым решением создать фундамент для развития какой-то определенной отрасли (Портер, 2016: 39). На наш взгляд, такая экономико-центристская редукция значительно упрощает понимание того вклада, который может вносить управленческая (шире – преобразовательная) деятельность, реализуемая как публичными органами, так и другими социальными институтами и организациями. Не умаляя значимость рыночных факторов, равно как и влияние других элементов социокультурной системы, мы не можем исключать из данного дискурса управленческую компоненту и учитывать только процессы социально-экономической самоорганизации. Ведь понимание того, что взаимодействие разнообразных акторов и задает социокультурную динамику, неминуемо поставит вопрос о возможностях и ограничениях сознательного (целенаправленного) регулирования этими акторами процессов и отношений, участниками которых они являются. В этом плане предпочтительнее было бы говорить о наличии эквивалентной связи между сложностной социокультурной средой и ее воссозда-ющими/преобразующими акторами, а в прикладной части профильных исследований заниматься изучением аксиологических основ целеполагания в сферах социального и публичного управления, разработкой теоретико-методологических основ его осуществления и диагностикой действительных социокультурных ситуаций (Астафьева, 2017).
В дальнейшем исследователи, работавшие в рамках обозначенной проблематики, также приходят к аналогичным выводам и вводят новые параметры, опосредующие конкурентоспособность страны. Например, расширенную версию предложенного М. Портером ромба составил И.В. Пилипенко, систематизировавший предшествующие и последующие концепции о развитии и специализации национальных экономик. Теперь помимо факторов рыночной конъюнктуры в нем отражено и влияние государства на динамику институциональной среды, и роль международного бизнеса, и значение самоорганизационного потенциала у социальных и экономических акторов (фактор случая) (Пилипенко, 2003). При этом в обновленной схеме выявлены и связи между всеми элементами системы, что наглядно подчеркивает их оговоренную ранее взаимооб-ратную зависимость и обосновывает целесообразность обращения к теме управленческого воздействия на протекающие в системе процессы. Из этого следует вопрос и о характере целеполагания субъектов управления, в том числе о необходимости введения в управленческий дискурс и культурно-гуманитарного измерения генерируемых эффектов.
Модели кластерной политики в туристско-рекреационной сфере . В настоящее время в России сосуществуют несколько моделей реализации кластерной политики в туристской сфере, имеющих свою специфику и направленность.
Первая модель реализуется в контексте логики программно-целевого подхода к достижению стратегических целей социально-экономического развития страны и на основе механизмов государственно-частного партнерства. Признавая разнообразие и уникальность туристского потенциала России, но одновременно и его недостаточную включенность в социально-экономический оборот, государство видит приоритетной для себя задачу строительства обеспечивающей инфраструктуры: дорожно-транспортной системы; электрических сетей; систем канализации, водоснабжения и отопления; объектов общего и непосредственно туристского назначения и т. д. Такое понимание было заложено в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», определившую кластер в качестве приоритетной формы организации туристско-рекреационной деятельности для выполнения поставленных задач. Примечательно, что сам кластер в документе рассматривался в двух ракурсах: с одной стороны, как «комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности, … снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой»1, с другой – как укрупненный инвестиционный проект, включающий в себя совокупность организационно и финансово взаимосвязанных проектов капитального строительства2. Согласно данной схеме, государственное финансирование направлялось на строительство обеспечивающей инфраструктуры или иных объектов с длительным сроком окупаемости, тогда как для возведения собственно туристской инфраструктуры предполагалось привлечение частных инвестиций. Регионам предоставлялось право выдвигать инвестиционные проекты туристско-рекреационных и/или автотуристских кластеров и претендовать по результатам экспертного отбора на субсидии за счет средств федерального бюджета, предусмотренные данной программой.
Резюмируя сказанное, мы можем согласиться с исследователями А.Ю. Александровой и Ю.Л. Владимировым, которые при описании выстроенной в рамках рассматриваемой ФЦП модели кластерной политики дали ей название «инфраструктурная» (Александрова, Владимиров, 2016: 48). Фактически эта модель определила достаточно рабочий способ сочетания механизмов целевого финансирования и государственно-частного партнерства крупных инфраструктурных проектов туристского или обеспечивающего назначения. Несмотря на ограниченный географический охват1, программа внесла значимый вклад в развитие транспортной и туристско-рекреационной инфраструктуры принявших в ней участие регионов, подготовив тем самым потенциальные полюса роста социально-экономической активности.
Еще одна модель кластерной политики разработана с учетом рекомендаций Министерства экономического развития РФ для достижения целей долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 г. В ее основу положен классический вариант интерпретации кластера: связанные между собой географически предприятия одной или нескольких смежных отраслей кооперируются для достижения оптимальных результатов деятельности, сокращения производственных и иных расходов, усиления конкурентоспособности и т. д. Видя в этом главное назначение кластера, Минэкономразвития совместно с региональными властями содействует созданию условий для развития таких производственных сетей в субъектах страны. Через специально учреждаемые в регионах организационные структуры осуществляется стимулирование предпринимательской активности и заинтересованности в резидентстве в среде местного населения или извне. Главными направлениями работы с представителями кластеров являются: поддержка малого и среднего предпринимательства (что особенно актуально для индустрии гостеприимства и туризма), обеспечение взаимодействия с образовательными и/или научными организациями, создание технологической инфраструктуры, осуществление целевых инвестиций в нее, внедрение особых мер налогового и административного регулирования. Федеральное ведомство берет на себя задачу методического и информационно-консультативного сопровождения реализации этой модели для региональных властей2. Исследователи А.Ю. Александрова и Л.Ю. Владимиров наименовали данную модель «синергетической», обосновывая эффективность и целесообразность кооперации отраслевых предприятий на конкретной территории (Александрова, Владимиров, 2016: 49). В этом ключе отметим, что в отличие от предыдущей модели государственное управление в описываемой направлено не на преодоление или разрешение проблем (дефицит инфраструктуры, ресурсов), а на проектирование благоприятных условий для самореализации инициативными лицами в сферах малого и среднего предпринимательства, в том числе и в туристском секторе. Как показывает реальная практика, регионы нередко прибегают к одновременному использованию обеих моделей: через инфраструктурную привлекают бюджетные и внебюджетные средства для реализации крупных инвестиционных проектов по строительству объектов общего и туристского назначения, а через синергетическую формируют поддерживающую кластерное развитие экосистему.
Модели кластерной политики в сферах культуры и креативных индустрий. Рассмотренные модели затрагивают только организационно-методические аспекты реализации кластерной политики в туристской сфере. Однако они не учитывают специфику культурного туризма как вида социокультурной деятельности, сущностно выходящего за пределы практики потребления. Действительно, упрощенно думать, что основное назначение культурного туризма сводится к организации досуга туристов или к посещению ими знаковых достопримечательностей. Хотя есть социологические исследования, которые определяют туризм как самостоятельную социальную практику, отличную, например, от путешествия, и выявляют, что ключевой потребностью туриста становится символическое потребление основных достопримечательностей в месте временного пребывания: посещение, фотографирование, приобретение сувенирной продукции3. Указанный риск коммодификации, на наш взгляд, действительно существует. Однако это не является основанием отказываться от социально-коммуникативной и духовной составляющей культурного туризма. В цикле видеолекций «Беседы о русской культуре» Ю.М. Лотман дает очень точную характеристику путешествию как форме общения, формирующей и расширяющей мировоззрение путешественников, открывающей для них новый мир4. И культурный туризм, напрямую связанный с материальным и нематериальным культурным наследием (диахронный уровень коммуникации) и актуальной культурной жизнью (синхронный уровень), также может и должен рассматриваться в качестве коммуникативной формы познания и формирования мировоззренческой картины личности (Астафьева, Смирнова, 2023: 125-127).
Особую актуальность введение данного ракурса приобретает в связи с поставленными Президентом РФ национальными целями развития страны до 2030 г., среди которых обозначается необходимость создания условий для воспитания и развития патриотичной и социально ответственной личности посредством обращения к ресурсам систем культуры и образования1. Следовательно, культурный туризм уже определяется нами с точки зрения перспективной формы инкультурации, духовного, эмоционального и интеллектуального развития личности - неотъемлемой части ее воспитания. Этот ракурс станет для нас ключевым при выделении еще двух моделей кластерной политики, постепенно формирующихся в нашей стране, на стыке отраслей культуры, креативных индустрий и туризма.
Культурный туризм неразрывно связан с культурой, с историко-культурным наследием, использует ресурсы культурно-досуговой инфраструктуры (Полякова, 2017; Алфёрова, 2018) и по этой причине вписывается нами в соответствующий управленческий дискурс - применение кластерного подхода в сфере культуры. В настоящее время в России получили распространение две достаточно схожие на первый взгляд формы кластеров: креативная и культурная.
Понятие «креативного кластера» в общих чертах было сформировано в Концепции развития творческих (креативных) индустрий до 2030 г. Несмотря на то, что документ носит рамочный характер и только обозначил необходимость выделения креативных индустрий (КИ) в отдельный сектор, он в значительной мере задал тон дальнейшему становлению системы государственной поддержки субъектов творческого предпринимательства. По сути, в рамках этого подхода кластер является формой территориальной концентрации производств креативного характера, в отношении которой государство способно применять уже отработанные механизмы поддержки предпринимательства (например, создание особого налогового режима, бюджетные инвестиции в развитие основных фондов, содействие продвижению производимого продукта). К особенностям его функционирования можно отнести следующие: наличие управляющей компании, занимающейся вопросами развития кластера под единым брендом и предоставляющей базовый набор услуг; три формата участия в кластере: резидент, поддерживающие институции, арендатор; создание возможностей для реализации производимого творческого продукта; учет не только экономических, но и социально-культурных эффектов от деятельности кластера2. Получается, что в соответствии с данным документом важным маркёром в определении эффективности работы креативных кластеров помимо показателей финансово-экономической целесообразности должна стать количественная и качественная оценка генерируемых социальных эффектов, а также выявление их соотнесенности с задачами государственного управления в регионах.
В 2022 г. Союз профессионалов креативных кластеров совместно с Институтом развития городов «ПОЛИС» провели масштабное исследование по систематизации всех действующих и запланированных к открытию до 2030 г. креативных кластеров. Из 300 рассмотренных кластеров (проектов кластеров) и иных форм отраслевой интеграции по заданным исследователями критериям были отобраны 85 объектов, попавших в категорию действующих креативных кластеров3. Для нас в приведенном исследовании интерес представляют несколько показателей, раскрывающих особенности и возможные риски в функционировании креативных кластеров с точки зрения их включенности в социально-культурные и экономические задачи регионального управления.
Обратим внимание на распределение кластеров по типу собственности. Во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского (СКФО), в котором исследователи не смогли по заданным критериям выявить действующие креативные кластеры, и Дальневосточного (ДФО), где созданы один региональный и один муниципальный объекты, большинство кластеров находится в частной собственности: от 50 до 60 % - в Приволжском федеральном округе (ПФО), Уральском федеральном округе (УрФО), Сибирском федеральном округе (СФО), свыше 75 % - в Центральном федеральном округе (ЦФО), Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), Южном федеральном округе (ЮФО)4. Предполагаем, это может быть объяснено тем, что до 2021 г.
сектор КИ не рассматривался в качестве стратегически перспективного для национальной экономики. Лишь некоторые регионы поддерживали его развитие, видя в нем потенциал для создания региональных, межрегиональных и иных точек притяжения (например, как потенциальной достопримечательности или места пребывания для туриста).
Также имеет смысл проверить корреляцию между типом собственности и составом резидентов в креативных кластерах. Преобладание частной собственности в секторе позволяет нам сделать предположение об изначальной ориентации учредителей кластеров извлекать и максимизировать прибыль из вложенных и привлеченных ресурсов. И, очевидно, самый простой способ извлечь прибыль из недвижимости, которая находится в частной собственности (или в аренде), сдать их в аренду (или в субаренду). При таком раскладе заинтересованность управляющих компаний в привлечении профильных резидентов не становится столь очевидной. Хотя для решения задач регионального развития требуется привлечение именно этой категории участников.
Сопоставление показателей типа собственности и состава участников кластера не позволило нам определить наличие прямой взаимосвязи между частной собственностью и количеством непрофильных резидентов1. Есть достаточно показательные данные по ЦФО, где при высокой доле частной собственности (93,3 %) профильные резиденты (36,6 %) уступают в численности непрофильным (41,5 %). Однако, например, в СЗФО при также значительном преобладании частной собственности (81,8 %) процент профильных резидентов (48,6 %) превышает средний показатель по стране (41,9 %). Данные по ДФО и УрФО должны подтверждать обратную зависимость: меньшая доля частной собственности (55,6 % в УрФО и регионально-муниципальная в ДФО) - большая доля профильных резидентов (51,7 и 62,6 % соответственно). Тем не менее показатели по СФО опровергают и данные примеры (57,1 % - частной собственности и 39,8 % - профильных резидентов). Отсюда следует очень значимый вывод: результативность работы кластеров, увеличение их вклада в достижение целей регионального развития определяются не столько типом собственности, сколько мотивацией и целеполаганием самих субъектов управления.
Именно критерий целеполагания мы предлагаем положить в основу разграничения еще двух моделей кластерной политики. Первая из них, рыночная, подразумевает, что основная цель субъекта управления кластером заключается в получении прибыли (краткосрочная ориентация), в то время как генерируемые социальные эффекты рассматриваются как вторичные, либо вовсе не учитываются. Иначе определено целеполагание в институциональной модели, в которой приоритетными становятся цели стратегического порядка, имеющие ценностное измерение.
Реализацию институциональной модели в части целеполагания рассмотрим на примере культурных (культурно-образовательных) кластеров в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке, реализуемых по поручению президента РФ в рамках Национального проекта «Культура». В основу пилотного проекта заложена идея строительства локально расположенных объектов культурно-образовательной инфраструктуры (музейные комплексы, театры, образовательные учреждения в сфере художественного образования и т. д.), которые должны стать точками притяжения национального масштаба. Запланировано открытие региональных подразделений Третьяковской галереи, Большого и Мариинского театров, Эрмитажа, Русского музея. Свои филиалы вместе с обеспечивающей инфраструктурой (общежития для обучающихся и преподавателей) уже открыли Московская государственная академия хореографии, Центральная музыкальная школа, Российский государственный институт сценических искусств. Возведенная в городах инфраструктура должна создать более 5 тыс. рабочих мест, а пройти обучение в открытых образовательных учреждениях смогут около 2,3 тыс. учеников. Также в планах обозначено, что строительство сети географически локализованных культурных и образовательных учреждений должно привести и к увеличению туристского потока2.
Несмотря на недостаточное количество информации о данном проекте в открытых источниках и его несопоставимость с рассмотренными выше проектами креативных кластеров, этот пример является очень иллюстративным для выявления сути обозначенной институциональной модели кластерной политики. Здесь адаптивное управление сменяется на институциональное, то есть направленное на проектирование условий для достижения социально значимых стратегических целей.
Заключение. В России регулирование общественных отношений в области культурного туризма носит межведомственный характер. Сама отрасль относится к ведению Министерства экономического развития РФ, однако непосредственная включенность ресурсов и субъектов сферы культуры в туристско-рекреационную деятельность определяет и зону ответственности Министерства культуры РФ, главного актора по проведению политики в области поддержки и трансляции традиционных ценностей в российском обществе. Таким образом, в рамках обозначенной бинарной административно-управленческой системы сложились два подхода к определению соотношения между культурой и туризмом. Экономико-центристский подход редуцирует полисемантическое содержание культуры до ресурса предпринимательской и управленческой деятельности. В то же время позиция профильного ведомства в сфере культуры исходит из более широкого понимания феномена как среды порождения смыслов и ценностей, пронизывающих и организующих человеческое и социальное бытие (Пелипенко, 2016: 82), что в дополнение к первой точке зрения вводит в управленческую проблематику и социально-институциональное измерение оценки проводимых в отрасли решений. Так, культурный туризм становится не просто видом хозяйственной деятельности, посредством развития которой органы власти стремятся преодолеть социально-экономические вызовы, но и сферой воспроизводства и продвижения культурной идентичности, оказывающей влияние на формирование благоприятной социокультурной среды региона.
Исходя из обозначенного контекста, исследование концептуальных основ организации кластерной политики в сфере культурного туризма выстраивалось нами по межотраслевому принципу: во-первых, кластерная политика непосредственно в туристской сфере; во-вторых, кластеры в секторе креативных индустрий и в культуре и их влияние на культурный туризм.
Результатом исследования первого блока стало обоснование взаимодополняемости двух сложившихся моделей кластерной политики в туризме - инфраструктурной и синергетической (наименованы по классификации А.Ю. Александровой и Ю.Л. Владимирова). Через инфраструктурную модель региональные власти имеют возможность получить частичное финансирование проектов туристско-рекреационных кластеров за счет средств, предусмотренных актуальной федеральной целевой программой. В свою очередь синергетическая модель обеспечивает создание на уровне регионов системы управления развитием кластеров, в том числе осуществление методического, правового, маркетингового и иного сопровождения действительных участников кластера.
В рамках второго блока при исследовании опыта функционирования креативных и культурных (культурно-образовательных) кластеров было установлено, что их вклад в решение задач регионального развития напрямую зависит от целеполагания субъекта управления. Исходя из этого, нами была предложена классификация моделей кластерной политики по критерию целевых установок управленческой деятельности. Рыночная модель определяет, что главной целью управленца является извлечение и максимизация прибыли от использования имеющихся активов, тогда как достижение благоприятных социальных эффектов становится вторичным. Вторая выделенная нами модель - институциональная - обосновывает целесообразность постановки стратегических социально значимых целей и проектирования совокупности условий для их достижения. Здесь кластер уже предстает результатом институционального проектирования субъектов публичного и общественного управления, способным изменять и социально-экономический, и культурный ландшафт региона. Данная модель в большей степени соответствует стратегическому видению проводимого в стране политического курса, определяющего, что создание условий для самореализации творческих и креативно мыслящих людей является ключевым залогом для обеспечения инновационного устойчивого развития страны.
Список литературы Модели кластерной политики в сфере культурного туризма: концептуальные основания межведомственного взаимодействия
- Александрова А.Ю., Владимиров Ю.Л. Особенности создания туристских кластеров в России (на примере Вологодской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т. 10, № 1. С. 47-58. https://doi.org/10.12737/17783.
- Алфёрова Н.С. Культурно-познавательный туризм: подходы к определению понятия // Аллея науки. 2018. Т. 2, № 1 (17). С. 188-191.
- Астафьева О.Н. Социокультурные кластеры как модель управления региональным развитием // Государственное управление и развитие России: модели и проекты: в 3 т. М., 2017. Т. 3. С. 185-193.
- Астафьева О.Н., Малыгина И.В. Российская культура в контексте динамики экономических стратегий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2022. № 4 (108). С. 15-26. https://doi.org/10.24412/1997-0803-2022-4108-15-26.
- Астафьева О.Н., Смирнова А.Ю. Культурный туризм как ресурс социально-экономического развития российских регионов // Мир русскоговорящих стран. 2023. № 4 (18). С. 116-132. https://doi.org/10.20323/2658_7866_2023_4_18_116.
- Кощеев Д.А., Исопескуль О.Ю. Проектирование туристских кластеров: системно-агломерационный подход. М., 2021. 326 с.
- Пелипенко А.А. Концепции эволюции и развития в смыслогенетической теории культуры // Мир психологии. 2016. № 1 (85). С. 78-92.
- Пилипенко И.В. Анализ основных зарубежных теорий конкурентоспособности стран и регионов в мировом хозяйстве // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2003. № 6. С. 15-25.
- Полякова М.А. Культурное наследие и туризм: проблемы взаимодействия и противостояния // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2017. № 10-2 (31). С. 240-247.
- Портер М.Е. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М., 2016. 947 с.
- Силичева Н.Е. Формирование стратегии развития туристско-рекреационных кластеров региона // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. 2023. Т. 16, № 1. С. 31-41.
- Чимирис С.В., Осокина Е.А. Туристические кластеры как движущая сила трансформации экономики региона // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма. Симферополь, 2023. С. 282-286.