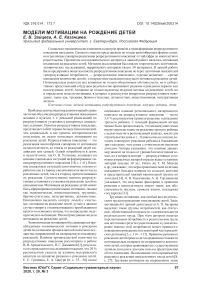Модели мотивации на рождение детей
Автор: Зайцева Екатерина Васильевна, Казанцева Алина Евгеньевна
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 3 т.20, 2020 года.
Бесплатный доступ
Социально-экономические изменения в социуме привели к трансформации репродуктивного поведения населения. Однако в социуме представлены не только разнообразные формы семьи, но и различные сценарии реализации репродуктивного поведения: от чайлдфри до многодетного родительства. Предметом исследовательского интереса в данной работе являлась мотивация индивидов на рождение детей. Методом исследования был анализ теоретических источников, эмпирических исследований, нарративного интервью (всего 50 интервью). В данной работе была предпринята попытка описать репродуктивное поведение не через дихотомии показателей «репродуктивные потребности - репродуктивное поведение», «средне желаемое - средне ожидаемое количество детей», а посредством выделения ведущего мотива на рождение детей. Потенциальные родители под влиянием не только объективных обстоятельств, но и субъективных представлений о будущем родительстве принимают решение о рождении первого или последующих детей. Авторами не только выделены ведущие мотивы на рождение детей, но и определены модели мотивации, в которых и реализуется конкретное репродуктивное поведение, такие как, трудовая, брачно-статусная, должностная, инвестиционная, интегративная модели.
Модели мотивации, репродуктивное поведение, ведущие мотивы, дети
Короткий адрес: https://sciup.org/147233422
IDR: 147233422 | УДК: 316.014 | DOI: 10.14529/ssh200314
Текст научной статьи Модели мотивации на рождение детей
Проблема депопуляции населения в нашей стране частично обусловлена репродуктивным поведением женщин и мужчин, т. е. реальной реализацией их репродуктивных установок в конкретных социальных условиях. Понятие репродуктивное поведение, представляет собой термин больше биологический, чем социальный, и как процесс воспроизводства популяции, не полно описывает мотивацию на рождение детей. Репродуктивное поведение — это реализация многообразия сценариев от мотивации на многодетность до отказа от рождений детей индивидом или семьей. Одной потребности в детях и недостаточно, так О. В. Устинова, указывает на влияние социальных ситуаций на формирование линии репродуктивного поведения [18, c.1 41]. Влияние социальных ситуаций дихотомично, они могут работать как в сторону увеличения итогового числа рожденных детей, так и в сторону препятствования их рождения. Соответственно понятия репродуктивная установка и установка на рождение детей не синонимичны. Мотивация на рождение детей может быть сформирована различными мотивами, такими как экономические, инвестиционные, трудовые, брачно-статусные, интегративные, должностные. Невозможно выделить когорту людей с «чистыми» мотивами на рождение детей, лучше в данном случае говорить о полимотивации с преобладанием какого-то основного мотива, что и определяет ведущую модель мотивации. Рассмотрим данные модели мотивации на рождение детей.
Экономическая мотивация обуславливается преобладанием экономических мотивов в рождении детей под влиянием пронаталисткой политики государства, направленной на материальную поддержку рождений. Влияние пронаталисткой политики на репродуктивное поведение рассмотрено в работе В. Н. Архангельского, Н. Г. Джанаевой [1], результаты их прикладного исследования показали, что 20 % респондентов указали на влияние материнского капитала на принятие решения о рождении детей. Е. Е. Гришина, Е. А. Цацура [6, c. 55—56] низко оценивали влияние регионального материнского капитала на репродуктивное поведение — всего 5,4 % респондентов приняли решение о рождении третьего ребенка. С позиций формальной логики можно было предположить, что малоимущие семьи имеют высокие планы на рождение третьего ребенка с целью получить региональный капитал, землю для строительства дома и т. . Однако семьи с низким доходом планируют рождение ребенка в ближайшие три года реже, чем семьи с относительно высоким доходом. Авторы указывают, что влияние данных мер зависит не только от уровня благосостояния семьи, но и возраста матери — репродуктивные установки возрастных матерей гораздо выше установок матерей младше 30 лет. Опять же Т. М. Малева и др. указывают, что меры пронаталисткой политики оказывают большее влияние на сельских жителей и представителей нижней квинтильной группы по доходам [14]. О. Н. Калачикова, А. Н. Гордиевская указывают, что ведущими факторами в принятии решения о многодетности имеют такие, как обеспеченность жильем, уровень жизни, поддержка государства [13].
Трудовая мотивация, как особый вид родительского труда по рождению и воспитанию детей. Здесь мотивацией к данной деятельности А. П. Багирова выделяет такие группы потребностей, как статусные, общественной полезности, содержательности родительского труда. При этом автором видится перспективным потребность в родительском труде как источнике средств существования и удовлетворение именно этой потребности может привести к повышению рождаемости в некоторой части российских регионов [2, с. 114—115]. Принятие решения о рождении детей происходит на сравнении стоимости потенциальных издержек по содержанию и воспитанию детей, которые сравниваются с существующим личным доходом и доходом семьи и представления об его изменении. На основании этого принимается решение о рождении определенного числа детей [8, с. 27]. Трудовая мотивация на современном этапе представляется достаточно специфической, так как сегодня такой труд с одной стороны значимый, с другой малопестижный. Однако родительский труд можно рассматривать и с точки зрения занятости. В этом смысле он представляет собой занятость, зависящую не только от собственных потребностей и социально-экономических возможностей индивидов, но биологической способности к воспроизводству. И с этой точки зрения родительский труд можно рассматривать как неустойчивую занятость. В данном контексте Э. В. Ильвес рассматривает родительский труд как труд с признаками прекариации [11, с. 259—260].
Брачно-статусная мотивация определяет приоритет брачных отношений для матери, где дети являются средством достижения поставленной цели, например, сохранение или создания семьи. Здесь мотивация на рождение детей сформирована под влиянием инструментальных ценностей в детях, таких как брак и отношения с партнером, они стоят на первом месте в системе ценностей. Иногда такая мотивация приводит к многодетному родительству, когда мать, вступая в браки не единожды старается закрепить новые супружеские отношения рождением следующего ребенка. Ф. Н. Ильясов указывает на опосредованные репродуктивные мотивы, где рождение детей направлено не на получение репродуктивных ресурсов и не определено потребностью в детях, являсь лишь средством достижения цели [12, с. 170]. И. С. Морозова выделяет в данной мотивационной модели такой социальный мотив, как манипулирование партнером («привязать к себе ребенком») или обратное поведение брачного партнера, когда мужчина, склоняя женщину к рождению детей, защищает себя от ухода супруги к другому партнеру [16, с. 141].
Должностная мотивация строится на социальноролевых установках личности и сводится к определению родительства как некоторому социальнобиологическому долгу, где с одной стороны рождение ребенка является процессом биологически детерминированным, а с другой необходимым атрибутом семейной жизни и изменению мариталь-ного статуса [19, с. 17]. В данной системе мотивации заложено убеждение, что женщине необходимо иметь детей, хотя бы одного. С. В. Трушкина [17, с. 21] указывает, что данный мотив является наиболее популярным, его отметили 80 % женщин, находящихся на третьем триместре беременности. Ж. Д. Брукс указывает, что родительство дает человеку социальный статус зрелости, поскольку наличие детей в представлениях социума является маркером взрослости [21]. Данной модели свойственно ориентация на социальные нормы дет-ности, стремлению соответствовать социальным ожиданиям, а решение принимается под давлением со стороны старших представителей расширенной семьи («семья без детей, не семья») или сверстников («у подруги уже есть ребенок, я тоже хочу»).
Можно рассматривать ребенка как инвестиционный актив, однако с высокой долей риска, ведь качество человеческого капитала, сформированное в ребенке, не всегда коррелирует с вложениями в него [20]. Инвестиционная модель мотивации при- водит сегодня к снижению рождаемости в целом, так как происходит рост инвестиций в детей: рождение и воспитание в большинстве случаев не окупается в современном обществе. Данное экономически утилитарное репродуктивное поведение рассматривается М. М. Даниной как модернизирующееся [7]. Изначально на доиндустриальных этапах развития общества, семья испытывала серьезную нужду в детях, инвестиции в детей носили непродолжительный и незначительный характер, себестоимость рождения и воспитания детей была невысока. Но в связи с переходом семей от ведения натурального хозяйства к наемному труду, вовлечение женщин в общественное воспроизводство, доходность детей падает, инвестиции в детей не окупаются и стремятся к отрицательным значениям [10, c. 968]. Однако цель инвестиций носит не всегда чисто экономический характер, целью инвестиций в детей может быть желание иметь помощь и поддержку в жизни, опору в старости, снятие проблемы одиночества и ухода за собой. С другой стороны, инвестиционная модель мотивации предполагает и передачу социального капитала семьи, формирование стартовых возможностей своим детям [15, c. 57].
Интегративная мотивация определяет модель, реализация которой направлена на продолжение рода, передачу культуры и представляет собой воспроизводство как часть производства общественной жизни. Данный вид мотивации был присущ семьям и в доиндустриальную эпоху. И сегодня этот мотив приоритетный во всех возрастных группах [9, c. 47]. На данную категорию мотивов указывают и С. С. Балабанов с З. Х. Саралиевой, выделяя кластер женщин с преобладанием данного мотива [3]. Мотив продолжения рода может отражать стремление родителей к реализации на детях собственных планов, которым не суждено было сбыться. Т. В. Бендас, О. С. Карымова [5, c. 192] описывают, что наряду с ведущими мотивами (критический возраст и желание укрепить семью) на третьем месте выступает мотив «продолжение рода», он более свойственен мужчинам, что в принципе объясняется патрилинейной передачей культуры и социального капитала. Мотив продолжения рода также широко распространен среди воцерквленных родителей, когда планы на рождение детей считают «Божьи промыслом» [4, c. 124].
Таким образом, мотивация на рождение детей имеет неустойчивый характер, она находится под влиянием различных социальных ситуаций, которые переживает семья и индивид. Социальные ситуации, вместе с репродуктивной установкой, формируют различное репродуктивное поведение индивидов или семейных групп, в том числе, как один из итогов, формируют и установки на рождение детей. Различные мотивы, влияют на принятие решения о рождении детей, несмотря на полимотивацию процесса репродуктивного поведения, можно выделить ведущий, который и определяет модель мотивации на рождение детей. Нами выделены такие модели, как модель трудовой мотивации, брачно-статусная модель, должностная модель, инвестиционная модель, модель интегративной мотивации.
Список литературы Модели мотивации на рождение детей
- Архангельский, В. Н. Региональные особенности динамики рождаемости и демографическая политика / B. Н. Архангельский, Н. Г. Джанаева // Уровень жизни населения регионов России. — 2014. — № 1 (191). — C. 73—82.
- Багирова, А. П. Мотивация родительского труда: опыт социологического осмысления /А. П. Багирова //Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. — 2013. — № 3 (116). — С. 113—119.
- Балабанов, С. С. Типология мотивов иметь или не иметь детей / С. С. Балабанов, З. Х. Саралиева // Социологические исследования, 2009. — №. 3. — С. 129—136.
- Банных, Г. А. Образ многодетной матери в пространстве российского Интернета / Г. А. Банных, Е. В. Зайцева, С. Н. Костина //Социум и власть, 2019. — №. 1 (75). — С. 120—127.
- Бендас, Т. В. Мотивы рождения ребенка при бесплодии родителей / Т. В. Бендас, О. С. Карымова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Социология. — 2010. — №. 3. — С. 190—195.
- Гришина, Е. Е. Региональный материнский капитал: анализ региональных различий и влияния на репродуктивное поведение / Е. Е. Гришина, Е. А. Цацура // Уровень жизни населения регионов России. — 2017. — № 3 (205). — С. 51—58.
- Данина, М. М. Современное состояние исследований в области регуляции репродуктивного поведения супругов /М. М. Данина, Н. В. Кисельникова (Волкова), А. А. Голзицкая, Е. А. Куминская и др. // Национальный психологический журнал. — 2016. — № 2 (22). — С. 73—83.
- Забаев, И. В. «Своя жизнь», образование, деторождение: мотивация репродуктивного поведения в современной России / И. В. Забаев // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. — 2010. — №. 3 (105). — С. 31—48.
- Зайцева, Е. В. Анализ влияния пронаталисткой политики на воспроизводство населения и положение многодетных семей / Е. В. Зайцева, Н. В. Гончарова // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. — 2019. — Т. 18, № 6. — С. 967—988.
- Зайцева, Е. В. Сексуальная культура жителей современного мегаполиса: монография /Е. В. Зайцева. — Екатеринбург : УГТУ — УПИ, 2007. — 204 с.
- Ильвес, Э. В. Родительский труд как неустойчивая занятость: принципы оценки /Э. В. Ильвес //Экономика труда. — 2017. — № 3. — С. 257—272.
- Ильясов, Ф. Н. Потребность в детях и репродуктивное поведение / Ф. Н. Ильясов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2013. — №. 1 (113). — С. 167-177.
- Калачикова, О. Н. Репродуктивное поведение населения: опыт многолетнего мониторинга / О. Н. Кала-чикова, А. Н. Гордиевская //Вопросы территориального развития. — 2014. — № 9 (19). — С. 1—13.
- Малева, Т. М. Пронаталистская демографическая политика глазами населения: десять лет спустя / Т. М. Малева Е. А. Третьякова, А. О. Макаренцева //Экономическая политика. — 2017. — № 6. — С. 124—127.
- Матюшечкин, А. С. Инвестиции в детей в терминах концепции социального капитала / А. С. Матю-шечкин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. — 2007. — №. 1. — С. 55—59.
- Морозова, И. С. и др. Апробация опросника «репродуктивные мотивы» // Вестник Кемеровского государственного университета, 2014. — Т. 3, № 3 (59). — С. 140—145.
- Трушкина, С. В. Исследование мотивов рождения ребенка у беременных женщин / С. В. Трушкина //Вопросы психического здоровья детей и подростков. — 2003. — Т. 3, № 2. — С. 21—25.
- Устинова, О. В. Репродуктивные мотивы жителей Уральского федерального округа / О. В. Устинова // Вестник угроведения. — 2014. — №. 1 (16). — С. 140—145.
- Чернова, Ж. В. Дискурсивные модели современного российского родительства /Ж. В. Чернова, Л. Л. Шпа-ковская //Женщина в российском обществе. — 2013. — № 2 (67). — С. 14—26.
- Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis / G. S. Becker. — 2-d ed. — New York, 1975.
- Brooks, J. The process of parenting / J. Brooks. — Mountain View, 1996.