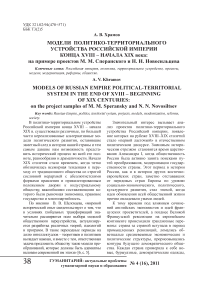Модели политико-территориального устройства Российской империи конца XVIII - начала XIX вв.: на примере проектов М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева
Автор: Храмов Алексей Викторович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются модели политико-территориального устройства Российской империи конца XVIII - начала XIX вв. на примере проектов М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева.
Российская империя, политика, территориальное устройство, проекты, модели, модернизация, реформы, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14720648
IDR: 14720648 | УДК: 321.02:94(470+571)
Текст научной статьи Модели политико-территориального устройства Российской империи конца XVIII - начала XIX вв.: на примере проектов М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева
В политико-территориальном устройстве Российской империи конца XVIII – начала XIX в. существовали различные, по большей части нереализованные альтернативные модели политического развития, оставившие заметный след в истории нашей страны и тем самым давшие нам возможность представить исторический процесс во всей его полноте, разнообразии и драматичности. Начало XIX столетия стало временем, когда четко обозначилась всемирная тенденция к переходу от традиционного общества со строгой сословной иерархией с абсолютистскими формами правления и привилегированным положением дворян к индустриальному обществу, важнейшими составляющими которого были рыночная экономика, правовое государство и многопартийность.
По мнению В. В. Шелохаева, «мировой исторический опыт свидетельствует о том, что в условиях глобальных трансформаций значительно расширяется поле выбора моделей общественного переустройства, актуализируется разработка различных теорий, идеологий и программ. В такие переходные периоды на долю интеллектуалов – теоретиков и политиков выпадает важная, и вместе с тем, ответственная задача предложить обществу такие модели преобразований, которые должны быть адекватны вызовам современной им эпохи» [6, с. 5].
Значительный интерес вызывает анализ проектов политико-территориального устройства Российской империи, появление которых на рубеже XVIII–XIX столетий стало «первой ласточкой» в отечественном политическом дискурсе. Значимым историческим отрезком становится время царствования Александра I, когда общественность России была активно занята поисками путей преобразования, модернизации государственности страны. Этот период в истории России, как и в истории других восточноевропейских стран, заметно отстававших от передовых стран Европы по уровню социально-экономического, политического, культурного развития, стал эпохой, когда идеи обновления всей общественной жизни прочно овладевали умами людей.
К тому времени под влиянием сочинений английских экономистов и идей французских просветителей, а позднее Великой Французской революции на европейском континенте происходили грандиозные перемены: страна за страной вступала в период промышленных революций, ломались обветшалые средневековые экономические и политические структуры, прорисовывались контуры будущего демократического общества. Каждая страна примеряла к себе новые, буржуазные, демократические одежды, и эта «примерка» происходила болезненно. Тем более болезненно, чем более отсталой и консервативной была страна. Принципы во многом были общими, но воплощались они в весьма специфических условиях. Это порождало глубокие общественные противоречия, порой придавало истории черты трагизма, драматически влияло на судьбы людей.
Россия не была в этом смысле исключением. Но она встала на путь перемен значительно позднее других европейских стран. По мнению А. Н. Сахарова, «слишком велика была давящая сила самодержавной политической системы, могущественного консервативного класса землевладельцев-помещиков; слабым было промышленное развитие и как результат этого – замедленное формирование третьего сословия. И все же либеральные настроения постепенно распространялись, с каждым десятилетием шире становился шаг российских реформаторов» [8, с. 782].
В Российской империи, где характерное для стран запада органическое развитие общественных отношений «снизу» было исторически задавлено их насаждением и жестким регулированием «сверху» государственными структурами, ответить на эти вызовы времени могло практически только государство, взявшее со времен Петра I курс на европеизацию страны и ставшее своего рода гарантом этого процесса. При этом оно отождествляло национальные интересы с интересами правящей династии и ее главной опоры в лице дворянского сословия. Правительственные реформы наталкивались либо на безразличие, либо на прямую враждебность всех слоев общества, что, безусловно, тормозило модернизационный процесс. Помимо этого, действовали и другие факторы, затруднявшие проведение в стране реформаторского курса. Правительство не могло не считаться с тем, что Российская империя была огромным многонациональным, многоконфессиональным и многоукладным с точки зрения ее хозяйственной структуры государством, эффективное управление которым из одного центра чисто бюрократическими методами представляло собой трудноразрешимую задачу. Источником постоянных затруднений для правительства также был непрерывно углублявшийся социокультурный раскол российского общества
Таким был в самых общих чертах тот всемирный контекст, в котором Россия вела в рассматриваемый нами период тяжелейшую борьбу за выживание как великой евроазиатской державы. Разбалансированность и неэффективность системы административного управления в начале XIX в. была вызвана объективно историческим процессом становления и развития русской государственности. В результате под властью империи оказались территории, различные по географическому положению, а значит, и по доминирующему типу хозяйства. Это в свою очередь требовало от России наличия твердой и авторитетной государственной власти, социальной стабильности, развитой экономики и путей сообщения. Перед страной все острее вставала вполне реальная альтернатива: либо радикальное обновление государственной системы, либо замена ее более передовым общественнополитическим строем [6, с. 109].
Диапазон этих проектов расширялся с каждым десятилетием, более многообразной становилась их политическая палитра. Уже 1820-е гг. дали в этом смысле замечательный пример, поставив в повестку дня политического преобразования России всю гамму по существу цивилизационных подходов, – от конституционно-монархического до революционно-демократического [8, с. 246].
Попытки решения накопившихся противоречий конституционным путем предпринимались в России как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Поэтому, по мнению А. Н. Медушевского, можно говорить о подразделении конституционализма (как формы легитимации власти) с начала XIX века на два направления: правительственный и революционный, критерием разделения которых выступает характер и масштабы конституционных гарантий, а также способы их достижения [4, с. 308–309].
В связи с этим, по мнению И. В. Бахлова, «особое значение в этой связи приобретают конституционные проекты, предлагаемые представителями правящей элиты (причем лишь той ее части, которая составляла правительство империи), так как только они имели шанс на практическую реализацию» [2, с. 53].
Определенным этапом на пути становления российского конституционализма стало начало XIX в., период, когда закончились наполеоновские войны и определилась новая карта Европы, где Финляндия и Польша получили собственное, отличное от России, конституционное устройство, а Александр I стал основным вдохновителем разработки проектов конституционных реформ, направленных на модернизацию существующей политической системы Российской империи. С самого начала XIX в. в ближайшем окружении правящего российского императора и при его деятельном участии были поставлены два поистине судьбоносных для тогдашней России вопроса: о ликвидации крепостного права и переходе к конституционнопарламентским формам правления. Среди разработчиков этих идей были М. М. Сперанский, Н. Н. Новосильцев и некоторые другие государственные деятели. Ориентирами для грядущих преобразований служили идеи Просвещения и французской революции, опыт ведущих стран запада, знаменитый кодекс Наполеона, являвшийся в то время эталоном европейского законодательства [6, с. 113].
По заданию Александра I М. М. Сперанский подготовил ряд проектов усовершенствования государственного строя империи, по существу, проектов российской Конституции. Часть проектов написана в 1802– 1804 гг.; в 1809 г. подготовлены обширные «Введение к уложению государственных законов», «Проект уложения государственных законов Российской империи» и связанные с ними записки и проекты.
Наиболее развернуто свои взгляды на грядущее преобразование России Сперанский дал в знаменитом «Введении к уложению государственных законов». Именно в этом документе Сперанский впервые в России четко сформулировал необходимость внедрения в политическую систему принципа разделения властей при опоре на традиции народного представительства: «Три силы движут и управляют государством: сила законодательная, исполнительная и судная. Начало и источник сих сил в народе...» [9].
Смыслом намечаемых преобразований являлись введение в государственную жизнь страны гражданских и политических прав, прежде всего права частной собственности, выборного начала, некоторого ограничения самодержавной власти царя.
Еще в 1802 г. был создан Комитет министров, состоящий из министров и главноуправляющих на правах министров. Впоследствии в него вошли председательствующий член Государственного совета и председатели его департаментов. Кроме того, в Кабинет министров могли входить отдельные лица по назначению императора. Через него проходили дела по надзору за высшими органами государственного управления, по личному составу государственных учреждений, он мог даже отменить решения Сената. Тем самым Комитет министров превратился в высшее административное законосовещательное учреждение, совещание неограниченного монарха по вопросам управления государством с наиболее доверенными, назначенными им и ответственными только перед ним высшими чиновниками [1, с. 310].
В 1810 г. по проекту М. М. Сперанского создается Государственный совет, являющийся высшим законосовещательным органом Российской империи. Председателем Государственного совета являлся император, а в его отсутствие в заседаниях – назначенный им член Совета. По должности в Совет входили министры, но были и члены, назначенные императором.
Квинтэссенцией проекта М. М. Сперанского стала идея привлечения к участию в законодательстве, суде и управлении народных представителей на различных уровнях. Предполагалось, что законодатели в соответствии со своими задачами будут организованы в волостную, окружную и уездную, губернскую Думы и высшую Государственную думу. На такие же четыре степени планировалось разделить и судебную власть: суды волостной, окружной, губернский и верховный или Судебный сенат. Исполнительная власть в системе Сперанского также делилась на управления – волостное, окружное, губернское и государственное или министерское. Государственный совет, где рассматривались все наиболее важные государственные законы, венчал это конституционное здание.
Вся полнота реальной власти на местах принадлежала в первой четверти XIX в. губернаторам. Они, как и подведомственные им губернские учреждения, были непосред- ственными представителями самодержавной власти в глазах многомиллионного населения Российской империи.
Министерская реформа 1810–1811 гг. поставила губернаторов в двойственное положение. С одной стороны, они назначались непосредственно царем, ежегодно представляли на «высочайшее имя» отчеты о состоянии дел в губернии и, таким образом, подчинялись непосредственно императору, с другой – являлись чиновниками Министерства внутренних дел и тем самым полностью зависели от министра. Губернское же правление – исполнительный орган при губернаторе – осталось подчиненным Сенату. Смешение задач и функций, неясность, кто кому подчинен, вновь и вновь рождали путаницу и приводили к необычайным осложнениям [5, с. 262–263].
Предложенная М. М. Сперанским реформа системы государственного управления должна была существенно изменить общественно-политический строй России. Как пишет А. Н. Сахаров, «конституционный проект Сперанского стал наивысшим на тот период достижением российской конституционной мысли. Если бы он был принят императором и проведен в жизнь, то Россия весьма быстро, наверстывая упущенное в истории время, пошла бы по пути цивилизационного развития в соответствии с запросами времени и уже в начале XIX века стала бы превращаться в конституционную буржуазную монархию» [8, с. 268].
Однако появившейся возможностью российская монархия не воспользовалась. Из всего проекта М. М. Сперанского была реализована идея о Государственном совете как координационном органе, который имел законосовещательные функции при императоре, а сам реформатор оказался в опале и был выслан в Нижний Новгород.
Через несколько лет, после окончания Отечественной войны 1812 г., Александр I вновь возвращается к мысли о даровании России народного представительства. Вдохновленный энтузиазмом, вызванным польской Конституцией в передовых кругах России, а также в Европе, император поручил своему другу, одному из членов Негласного комитета Н. Н. Новосильцеву, подготовить очередной конституционный проект. В
1820 г. на стол императора ложится «Государственная уставная грамота Российской империи». Данный документ позволяет в полном объеме увидеть ту модель государственности, которую император предлагал стране и которую на протяжении всего своего царствования намеревался, но так и не успел реализовать.
Это был развернутый конституционный проект и во многом являлся шагом вперед даже по сравнению с проектом М. М. Сперанского, хотя и вобрал в себя его основные идеи. Так, по словам А. М. Пыпина, «проект Новосильцева был, по-видимому, последовательным развитием планов, какие некогда император поручал Сперанскому. Между ними нельзя не заметить значительного сходства, например, в общем плане представительства, в устройстве административном, в намеках на устройство судебное» [7, с. 360].
-
Н. Н. Новосильцев предлагал ввести в России двухпалатный парламент – Государственную думу («сейм»), местные представительные органы власти – «сеймы», разделение законодательной и исполнительной власти между императором и выборными органами. Царь один имел право инициировать законы, но они должны были быть изучены и одобрены Государственной думой, прежде чем будут опубликованы.
Модернизировалась и система территориального управления, империя должна была делиться на наместничества, в которых создавались двухпалатные парламенты (местные сеймы), осуществляющие законодательную власть на основе народного представительства. Всю полноту власти в наместничестве осуществлял назначаемый императором наместник вместе с парламентом. В связи с этим О. Кудинов отмечает, что таким образом в управлении Российской империи стали намечаться отдельные элементы федерализма [3, с. 75]. Однако, несмотря на то, что проект Конституции Н. Н. Новосильцева был одобрен Александром I, он надолго залег в его бумагах и так и не был реализован.
В итоге все попытки прагматичного претворения в жизнь проектов политикотерриториального переустройства Российской империи М. М. Сперанским и Н. Н. Новосильцевым не удались. Истори- ческое время перевода России на рельсы эволюционного конституционализма было упущено. Восстание декабристов стало кульминацией тех общественных устремлений, которые были уже реальностью в России начала XIX в., и подчеркнуло неспособность существующей власти решить хотя бы часть назревших политических проблем. С этого времени даже весьма умеренные проекты, отражающие политические реалии нормального цивилизационного развития России, могли рождаться лишь вне императорского окружения и осуществляться в ожесточен- ной политической борьбе, которая выходила далеко за рамки настроений умеренных конституционалистов. Радикальная тенденция, определившаяся в российском политическом движении, стала четким регулятором последующего развития русской конституционной мысли. Однако идеи, заложенные в конституционных проектах М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева, постоянно присутствовали в общественной традиции, в ментальности лучших, передовых умов России, и их влияние на общественную мысль Российской империи со временем лишь нарастало.
Список литературы Модели политико-территориального устройства Российской империи конца XVIII - начала XIX вв.: на примере проектов М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева
- Бахлов И. В. От империи к федерации/И. В. Бахлов. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. -656 с.
- Бахлов И. В. Политические механизмы трансформации территориальной системы России/И. В. Бахлов. -Саранск: Издат. центр. ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2009. -192 с.
- Кудинов О. А. Правительственные проекты конституций Российской империи XIX в.//Государство и право. -2004. -№ 4. -С. 73-79.
- Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной перспективе/А. Н. Медушевский. -М.: РОСПЭН, 1997. -650 с.
- Мироненко С. В. История отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX -XX в./Сост.: С.В. Мироненко. -М.: Политиздат, 1991. -367 с.
- Модели общественного переустройства России. XX век/отв. ред. В. В. Шелохаев. -М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. -608 с.
- Пыпин А. Н. Общественное движение при Александре I. -СПб., 1908. -560 с.
- Сахаров А. Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация/А. Н. Сахаров. -М.: [ИРИ РАН], 2004. -956 с.
- Сперанский М. М. Проекты и записки/М. М. Сперанский. -М., 1961. -С. 32.