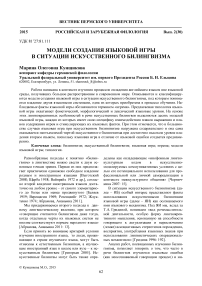Модели создания языковой игры в ситуации искусственного билингвизма
Автор: Кунщикова Марина Олеговна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
Работа написана в контексте изучения процессов овладения английским языком вне языковой среды, получивших большое распространение в современном мире. Описываются и классифицируются модели создания языковой игры в ситуации искусственного билингвизма, под которым понимается владение двумя языковыми системами, одна из которых приобретена в процессе обучения. Наблюдаемые факты языковой игры обозначаются термином «игрема». Предлагаемая типология языковой игры охватывает фонетический, морфологический и лексический языковые уровни. На основе этих лингвокреативных особенностей в речи искусственных билингвов выделяются десять моделей языковой игры, каждая из которых имеет свою специфику взаимодействия планов выражения и планов содержания игрем и стимулирующих их языковых фактов. При этом отмечается, что в большинстве случаев языковая игра при искусственном билингвизме нагружена содержательно и она сама оказывается неотъемлемой чертой искусственного билингвизма при достаточно высоком уровне владения вторым языком, поскольку языковая игра в отличие от языковой ошибки создается преднамеренно.
Билингвизм, искусственный билингвизм, языковая игра, игрема, модели языковой игры, типология
Короткий адрес: https://sciup.org/14729384
IDR: 14729384 | УДК: 81''27:81.111
Текст научной статьи Модели создания языковой игры в ситуации искусственного билингвизма
Разнообразные подходы к понятию «билингвизм» в лингвистике можно свести к двум основным точкам зрения. Первая из них предполагает практически одинаково свободное владение родным и иностранным языками [Выготский 2008; Щерба 1958; Вайнрайх 1972 и др.], согласно второй владение иностранным языком достаточно на любом уровне – от самого элементарного до более или менее продвинутого [Беляев 1959; Верещагин 1969; Розенцвейг 1972; Жлук-тенко 1974; Абрамова, Ананьина 2011].
Мы придерживаемся второго подхода к данному лингвистическому явлению, при котором «говорящие считаются билингвами даже тогда, когда отдельные черты их языковых систем не вполне соответствуют нормам неродного языка» [Абрамова, Ананьина 2011: 13].
Если принять во внимание критерий условия изучения иностранного языка, то люди, проживающие в стране изучаемого языка, могут быть отнесены к естественным билингвам, а изучающие иностранный язык в школе или вузе – к искусственным билингвам [Григорьев 2005]. Искусственные билингвы могут быть также опре- делены как овладевающие «инофонным лингвокультурным кодом в искусственно-моделируемых коммуникативных условиях с целью его потенциального использования для профессиональной или личной самореализации в контексте межкультурного общения» [Черничкина 2007: 15].
В ситуации искусственного билингвизма (далее – ИБ) особый интерес представляют факты использования искусственными билингвами языковой игры (далее – ЯИ) как осознаваемого ими языкового механизма. Под ЯИ мы, вслед за Т.А. Гридиной, понимаем «вид речемыслительной деятельности, особую форму лингвокреативного мышления, основанную на способности говорящего к актуализации и переключению (ломке) ассоциативных стереотипов порождения, восприятия, употребления языковых знаков при использовании лингвистических операциональных механизмов» [Гридина 1996: 192].
Анализ работ, посвященных изучению билингвизма, позволяет говорить о том, что часто в речи билингвов изучаются языковые ошибки (как неосознаваемый говорящим процесс) и ин-
терферирующее влияние языков друг на друга [Маркосян 2004], но исследований речепорож-дений билингвов в аспекте использования языковой игры как осознаваемого лингвистического приема еще не было предпринято.
Проблемы языковой игры в речи искусственных билингвов рассматриваются, в частности, Д. Кристалом. В своей книге «Language Play: Language» употребление ЯИ при овладении вторым языком данный ученый называет термином bilingual pun («билингвальный каламбур»), отмечая такие черты, как осознаваемое нарушение языкового канона, диалогичность или нацеленность на собеседника в процессе создания игрем, а также спонтанный и динамичный характер ЯИ. Исследователь полагает, что ЯИ неизбежно возникает в процессе языкового обучения, когда «стоит только одному человеку создать каламбур, рассказать шутку или еще каким-либо образом подурачиться, как неожиданно все в группе тоже испытывают непреодолимое желание шутить» (перевод наш. – М.К. ) [Crystal 1998: 54]. Д. Кристал сравнивает языковую игру с игрой в пинг-понг (“ping-pong punning”), с четко очерченной системой правил и духом соревнования среди игроков, когда «языковой юмор балансирует туда-обратно от одного игрока к другому в атмосфере соперничества» (перевод наш. – М.К. ) [ibid.: 2]. К правилам языковой игры им относятся следующие моменты: «Существует особая игровая манера разговора с соответствующими выражениями лица; … часть слова или фразы, содержащая игрему, произносится более отчетливо; … участники не могут повторять одну и ту же игрему в одном предложении» (перевод наш. – М.К. ) [ibid.: 5]. Кроме того, если игра производится на фонетическом уровне, то морфологический, лексический и синтаксический языковые уровни не подвергаются игровым трансформациям, и наоборот. Признавая, что существует большое различие между «ограниченными игровыми способностями в иностранном языке и всесторонними языковыми способностями в родном» (перевод наш. – М.К. ) [ibid.: 18], ученый не выделяет особых закономерностей лингвокреативного моделирования в процессе овладения иностранным языком.
С одной стороны, ЯИ строится на знании языкового прототипа (нормы), закрепленного в системе изучаемого языка. Использование такого прототипа способствует не только его закреплению в памяти, но и расширению языковых употреблений в ситуации не-знания языкового материала и необходимости этот материал вербализовать. Иными словами, с помощью ЯИ искусственный билингв самостоятельно компенсирует языковые лакуны в иностранном языке и моделирует новые смыслы и словоупотребления, расширяя традиционные границы иностранного языка.
С другой стороны, выходя за традиционно принятые границы изучаемого языка, искусственный билингв позволяет себе проявить лингвистическую свободу и креативность, что, несомненно, можно считать формой самовыражения. Человек не просто изучает новый материала, но подвергает его переработке и личностному переосмыслению. Наконец, ЯИ компенсирует недостаток эмоций в процессе изучения иностранного языка. Знание закономерностей моделирования ЯИ в ситуации научения языку (при ИБ) позволяет увидеть эффективные способы предъявления материала изучающим язык, которые могли бы способствовать лучшему запоминанию информации и ее дальнейшему использованию. Именно изучению моделей такого использования ЯИ и посвящена данная статья.
Материалом исследования послужили высказывания русских студентов (письменные и устные), изучающих английский язык как иностранный. Материал собирался в процессе непосредственного «полевого» наблюдения за этими студентами: либо из их письменных работ, либо из их устных высказываний.
В процессе отбора материала письменной речи брались те примеры, которые оказывались взятыми в кавычки либо употреблялись наравне с правильными, узуальными формами речи, поскольку при искусственном билингвизме, когда чистота и правильность речи ставятся во главу угла учебного процесса [Черничкина 2007], важно разграничить факты ЯИ и языковые ошибки.
В устной речи такими критериями отбора стали интонационное выделение, паузы в момент употребления языковой игры либо, как и в случае с письменной речью, – употребление игрем наравне с правильными формами речи, представленными в том же контексте.
Анализ материала позволил выделить 10 основных моделей языковой игры в речи искусственных билингвов. Рассмотрим их.
На ф он етич еском уровне выделяется две модели. Модель № 1 связана с ситуацией, когда слово-стимул порождает игрему (термин Т.А. Гридиной) [см.: Гридина 1996; Лингвистика креатива 2012], близкую по звучанию и безразличную к семантике этого стимула. Слово-стимул и игрема оказываются связанными только на уровне плана выражения благодаря общим фонемам, а очевидной содержательной связи при этом не наблюдается.
Так, в диалоге
Студент 1:Yes, of course. I will print this document for you.
Студент 2: Yes, of horse,… мы можем видеть, что слово-стимул of course ‘конечно’ и игрема of horse, представляющая собой сочетание предлога of и существительного horse ‘лошадь’, связаны лишь употреблением общих фонем [ɔv] и [ɔ:s].
Или, в такой ситуации:
Студент 1: My friend works in a spa-centre
Студент 2: A famous spy-centre
– очевидно, что мотивирующее слово spa ‘курорт с минеральными водами’ и мотивированное слово spy ‘шпион’ также связаны лишь общими фонемами [sp].
Модель № 2 находит отражение в ситуации, когда слово-стимул порождает близкие по звучанию игремы, связанные между собой неким ассоциативным фоном, исходящим из окружения слова-стимула. С одной стороны, реакцией на слово-стимул становятся созвучные производные слова. С другой – эти игровые реакции оказываются мотивированы содержательно. При этом полученные игровые реакции создают эффект цепной реакции (или то, что Д. Кристал называет «пинг-понг-эффектом» ЯИ [Crystal 1998: 2]) и стимулируют создание других игрем как путем фонетического сближения, так и при помощи смыслового выведения. В результате таких игровых манипуляций создается игровая цепочка фонетических и смысловых ассоциатов.
Рассматриваемая модель прослеживается, например, в разговоре двух студентов, только что купивших булочку под названием «The Texas bun» («Техасская булочка»), которое и становится первоначальным словом-стимулом в данном диалоге:
Студент 1: The Texas bun, …the sun, the gun!
Студент 2: The Texas lifestyle
Студент 1: A romantic one with the gun and fun.
Реакцией на слово-стимул bun ‘булочка’ становятся созвучные слова sun ‘солнце’, gun ‘оружие’, fun ‘веселье’, фонетическая связь которых осуществляется через общую фонему [ ʌ n]. При этом все они оказались мотивированы содержательно. Слово-стимул Texas вызывает ассоциации с солнцем (Техас славится своей хорошей погодой) и оружием (в Техасе разрешено ношение оружия). Слова-ассоциации ‘солнце’ и ‘оружие’, в свою очередь, вызывают фонетическую ассоциацию fun ‘веселье’.
То есть в одном случае (модель № 1) мы видим чисто формальную ЯИ на фонетическом уровне, в другом (модель № 2) – осложненную содержательно.
На мор ф ологич еском уровне можно выделить три модели.
Модель № 3 основана на игровой эксплуатации словообразовательной модели, когда в рамках одного контекста представляются мотивирующее и мотивированные слова (слово-стимул и игремы) одного словообразовательного типа, объединенные общим словообразовательным формантом, характеризующиеся одним словообразовательным значением и разными лексическими значениями. При этом лексические значения производящего слова и производных слов вступают во взаимоотношения взаимодополнения.
Обратимся к следующему диалогу между преподавателем и студентом:
Преподаватель: Hopefully you’ll finish off in 3 minutes
Студент: Hopefully? Ideally? Presumably? Technically?
Преподавателем задано слово-стимул hopefully (‘с надеждой, будем надеяться’), которое студент воспринял как слово-стимул и на которое он реагирует целым набором аналогично звучащих лексем ideally (‘превосходно; в воображении; в соответствии с идеалом, в идеале’), presumably’ (‘вероятно’), technically (‘формально’). Игремы связаны словообразовательным формантом -ly (типичным суффиксом наречий). Выстраивается логическая цепочка в ответ на просьбу выполнить определенное задание за 3 минуты. Студент задается вопросом относительно того, как должна быть сделана работа: ‘превосходно’, ‘предположительно’, ‘формально’. Употребление четырех наречий с разными планами содержания в одной реплике является нестандартным для любого языка и признается нами как факт ЯИ.
Другой пример реализации этой же модели ЯИ можно увидеть в том случае, когда происходит взаимодействие производной и производящей основ, которое идет по линии взаимодополнения и выстраивания иерархии смыслов (от наименьшей проявленности некоторого признака и до его наибольшей проявленности). Результатом такой игры является словообразовательная цепочка из мотивированных слов, представляющих собой слова одной лексической категории.
Данная модель находит отражение в следующем диалоге студентов, обсуждающих, кто является добытчиком в семье:
Студент 1: He is the breadwinner in the family.
Cтудент 2: I wonder who the butterwinner and the caviarwinner are…
Cтудент 1: Ha-ha…the caviarwinner is the richest, and the breadwinner is the poorest.
Слово-стимул breadwinner раскладывается говорящими на элементы, соответствующие реальному членению слова bread ‘хлеб’ и winner ‘победитель’. Говорящие заменяют первый элемент на названия других, более дорогих продуктов: butter ‘масло’ и caviar ‘икра’. В итоге мы получаем две новые игремы – butterwinner и caviarwinner . Эти лексемы противопоставляются по степени проявленности анализируемого признака: от минимального дохода breadwinner до максимального caviarwinner , при этом узуальному слову breadwinner приписывается неузуальное значение ‘самый бедный человек’ («the breadwinner is the poorest»), в то время как игреме caviarwinner приписывается значение ‘самый богатый человек’ («the caviarwinner is the richest»). Игрема же butterwinner оказывается между breadwinner и caviarwinner по уровню благосостояния. Таким образом, студенты не просто заменили первый элемент составного слова, но и выстроили смысловую иерархию по цене продукта, положенного в основу игремы: bread (минимальная цена), butter (средняя цена) и caviar (максимальная цена). В данном примере, кроме появления двух игрем, мы также наблюдаем приписывание нового оттенка значения существующему в языке breadwinner ‘кормилец в семье’. В разбираемом контексте происходит сужение значения слова («тот кормилец, который зарабатывает меньше всего денег»). Важно отметить и то, что элемент, подвергаемый игровой трансформации, заменяется на слова из той же лексической категории «еда».
Модель № 4 основана на особом способе словообразования путем перехода основы слова-стимула в другую парадигму словоизменения, результатом которого становится игрема, принадлежащая к иной части речи. Такой вид ЯИ можно назвать конверсивным, причем часто в качестве мотивирующего слова выступает имя собственное. В этом случае типично именная парадигма переходит в типично глагольную.
Так, например, в основу следующей игровой конверсии кладется имя собственное « Apple » (американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения):
Студент: Please apple me. Buy me Iphone5, at least Iphone5C.
ЯИ строится на конверсии, в основу которой положен прецедентный феномен (название компании «Apple»). Существительное Apple становится не только глаголом to apple, но и получает трактовку внутри самой реплики ‘купить продукцию фирмы «Apple»’.
Следующая модель языковой игры (модель № 5) основана на приеме ложной этимологии, или псевдомотивации внутри узуального слова, когда в слове обнаруживаются новые морфологические элементы, не совпадающие с реальным происхождением обыгрываемого слова. Новые морфологические элементы могут быть выделены графически или интонационно, чтобы привлечь внимание собеседника. Это можно увидеть в следующем примере из сочинения студента:
Студент: Their neighbor was always ready for PUNgent remarks
Искусственный билингв использует заглавные буквы, активизируя тем самым дополнительные смыслы. В слове pungent ‘язвительный, саркастичный’(от лат. pungere ‘уколоть, ужалить’) графически выделен компонент pun ‘игра слов, каламбур’ (от лат. punctum ‘точка, отметка’). План содержания слова-стимула pungent расширен с помощью плана содержания слова pun .
Модель № 6 реализуется в ситуации изменения корня слова, когда новый корень обладает некоторыми общими фонетическими признаками с предыдущим корнем. При этом оба корня взаимодействуют по принципу взаимодополнения.
Например, в следующем комментарии студента к фотографии кошки, сидящей на стуле, читаем: Her catjesty is on the throne.
Языковая игра строится с помощью преобразования фразы her majesty «ее Величество» в her catjesty «ее кошачество». Слово-стимул majesty изменяется на уровне корня. Происходит компрессия лексического значения слова-стимула (от «ее величество» до «ее кошачество»).
На лексич еском уровне выделено четыре модели.
Модель № 7 связана с обыгрыванием формы слова-стимула, когда его план выражения сохраняется, но ему приписываются новые смыслы на основании личных или культурных ассоциаций. Следующий диалог может послужить иллюстрацией данной модели:
Студент 1: The maintenance department of T-Mobile inboxed us with the phrase «Bear with us».
Студент 2: Of course, we have to be patient with them not to be overcharged
Студент 1: Yes, sure though it sounds like «Mess with us». Bear is such a big animal, you know.
Студент 2: Haha imagine they finish their email with «Fox with us» meaning «Be cunning».
Здесь представлено осмысление идиомы bear with somebody . Она употреблена в значении
‘быть терпеливым с кем-либо’, о чем и идет речь во второй реплике: to be patient with them . Однако говорящий приписывает этой идиоме новое значение: mess with us («ругайтесь с нами»). Это связано с другим значением bear – ‘медведь’, которое может ассоциироваться с агрессией или страхом. Тем более что в разговоре упоминается, что «медведь – большое животное» («Bear is such a big animal»). В следующем витке языковой игры слово-стимул bear – ‘медведь’ служит стимулом для выражения «Fox with us» («будьте лисой с нами»), где происходит переход существительного a fox в глагол to fox . Говорящие также представляют в этой ситуации и лексическое значение фразы « Fox with us » (« be cunning » или «будьте хитрыми»). В основу такого значения кладется стереотипное восприятие «лиса – хитрое животное».
Модель № 8 основывается на трансформации идиомы, когда ее отдельные части заменяются на другие слова (вставные элементы), часто из той же лексической категории. Обыгрываемые элементы в полученных игремах вступают во взаимодействие и образуют новую систему смыслов. Реализация этой модели может быть обнаружена в следующем диалоге:
Студент 1: There’s a slim chance that we will win the game. We’re unlikely to nail it.
Cтудент 2: Anyway we still have got a chance. Who knows? At least our chance isn’t skinny.
Cтудент 1: Very funny. In the ideal world we should have had a chubby chance.
Языковая игра строится на обыгрывании идиомы-стимула a slim chance («небольшой шанс»), который разбирается говорящими на компоненты. Компонент slim ‘стройный’ провоцирует создание игрем на основе слов из категории «стройность»; в частности, берутся слова skinny ‘худой’ и chubby ‘полный’. Студенты создают игре-мы a skinny chance («совсем маленький шанс») и a chubby chance («хороший шанс»).
Девятая модель (модель № 9 ) основана на употреблении искусственными билингвами калек с родного языка в изучаемом языке, которые являются неузуальными для изучаемого языка. Их новизна может быть и на уровне плана выражения, и на уровне плана содержания.
Обратимся к конкретной речевой ситуации:
Студент: Where should I take ideas from? From the ceiling?
Преподаватель (глядя на потолок): What do you mean? Ceiling…floor? What?
Студент (глядя на потолок и показывая на него пальцем): I have no source …only ceiling.
Преподаватель: Do you say so in Russian?
Студент: Yes, that is our set phrases when we are short of ideas.
Преподаватель (со смехом): Got you. Out of nowhere.
ЯИ строится на дословном переводе студентом русской идиомы с потолка – «from the ceil-ing». Преподаватель (носитель языка) не понимает ее, но путем наводящих вопросов находит ее английский аналог out of nowhere ‘из ниоткуда’.
Модель № 10 также представляет собой обыгрывание идиом с использованием вставных конструкций, но здесь в их качестве выступают прилагательные, привносящие оценочность обыгрываемой идиоме. Оценочность выстраивается по принципу антонимии. Это можно проследить в следующем диалоге студентов:
С1: Dating guys is like a pig in the poke, like in the lottery
С2: Like a bad pig in the poke
С1: Like a bad pig in the handsome poke
С2: Like a good pig in the ugly poke
С1: If you are lucky enough like a good pig in the handsome poke
Языковая игра основана на обыгрывании идиомы a pig in the poke ‘свинья в мешке’, в которую говорящие привносят прилагательные bad , good , ugly , handsome . Идиому a pig in the poke две девушки применили при обсуждении молодых людей, с которыми они встречаются. С одной стороны, в диалоге было актуализировано стереотипное употребление этой идиомы («решение, принятое без учета последствий, вслепую») наравне со сравнением всего процесса с лотереей: «Dating guys is like a pig in the poke, like in the lottery». С другой стороны, устойчивое выражение a pig in the poke подвергается обыгрыванию с помощью видоизменения формы идиомы и манипуляций с определениями: «Like a bad pig in the poke», «Like a bad pig in the handsome poke», «Like a good pig in the ugly poke», «Like a good pig in the handsome poke».
Таким образом, мы выделили десять моделей языковой игры в речи искусственных билингвов на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях. Каждая из этих моделей отличается спецификой взаимодействия планов выражения и содержания. Важным наблюдением является то, что обнаруживается достаточно мало примеров, когда взаимодействие планов выражения не нагружено содержательно.
Все эти модели объединены тем, что в процессе построения языковой игры искусственный билингв позволяет себе свободное отношение к языковой норме, манипулируя теми или иными языковыми компонентами, что безусловно пока- зывает, что «языковая игра актуализирует системные, а не узуальные параметры языка» [Журавлева 2008: 73].
MODELS OF WORDPLAY FORMATION
IN THE CONTEXT OF CLASSROOM BILINGUALISM
Marina O. Kunshchikova
Postgraduate Student in the Department of Germanic Philology
Ural Federal University
Список литературы Модели создания языковой игры в ситуации искусственного билингвизма
- Абрамова И.Е., Ананьина А.В. Искусственный билингвизм: проблемы и решения. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. 219 с
- Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. М.: Учпедгиз, 1959. 286 с
- Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие//Новое в лингвистике. Вып.У1. Языковые контакты. М.: Прогресс,1972. С. 25-60
- Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). М.: Наука, 1969. 160 с
- Выготский Л. С. Мышление и речь: сборник. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. 668 с
- Григорьев И.Н. Литературный билингвизм В. Набокова: синтаксическая интерференция в англоязычных произведениях писателя: дисс.. докт. филол. наук. Пермь, 2005. 288 с
- Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1996. 215 с
- Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев: Вища Школа, 1974. 175 с
- Журавлева О. В. Когнитивные модели языковой игры (на материалах заголовков русских и английских публицистических изданий): дисс.. канд. филол. наук. Барнаул, 2008. 207 с
- Лингвистика креатива/под общ. ред. проф. Т.А. Гридиной. Екатеринбург: Урал. гос. пед. унт, 2012. 378 с
- Маркосян А.С. Очерк теории овладения вторым языком. М.:УМК «Психология», 2004. 382 с
- Розенцвейг В.Ю. Основные вопросы теории языковых контактов//Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1972. Вып. 6. С.5-27
- Черничкина Е.К. Искусственный билингвизм: лингвистический статус и характеристики: авто-реф. дисс.. канд. филол. наук. Волгоград, 2007. 30 с
- Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. Т. 1. 182 с
- Crystal D. Language play: Language. Penguin books, 1998. 249p
- Online Etymology Dictionary. URL: http://www.etymonline.com/(дата обращения: 01.03.2015)
- Электронный словарь ABBYY Lingvo. URL: http://lingvoonline.ru/ru/Search?searchMode=Transl ate&searchSrcLang=en&searchDestLang=ru&searc hText (дата обращения: 01.03.2015)