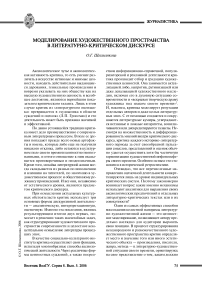Моделирование художественного пространства в литературно-критическом дискурсе
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975103
IDR: 14975103
Текст статьи Моделирование художественного пространства в литературно-критическом дискурсе
Аксиологическое чутье и аксиологическая активность критика, то есть умение различать в искусстве истинные и мнимые ценности, находить действительно выдающиеся дарования, гениальные произведения и вовремя указывать на них обществу как на высшую художественную ценность и всеобщее достояние, являются вернейшим показателем критического таланта. Лишь в этом случае критик из «литературного оценщика» превращается в «художника в области суждений и оценок» (Л.П. Гроссман) и его деятельность может быть признана значимой и эффективной.
По давно устоявшейся традиции критика имеет дело преимущественно с современным литературным процессом. В поле ее зрения попадают прежде всего новые артефакты и имена, которые либо еще не получили никакого отклика, либо остаются в культурном поле своего времени ценностно неопознанными, и оттого отношение к ним оказывается противоречивым и неоднозначным. Кроме того, мозайка литературной жизни всегда складывается из разных по исполнению и влиянию на читателей, по значению в художественном процессе и общественному резонансу произведений. И все они, независимо от эстетического уровня, являются предметом критического дискурса.
При осмыслении актуальных культурных обстоятельств критик использует три основных формы дискурсивной деятельности — аналитическую, интерпретационную, оценочную. Именно эта последняя, являясь результирующим итогом двух первых, помогает в решении таких масштабных задач, как структурирование художественного пространства современности и целостное концептуальное осмысление литературы прошедших эпох.
В качестве социально-культурного института критика осуществляет свои функции, используя многообразные способы аксиологической деятельности. Через различные формы ценностных суждений, а также посред- ством информационно-справочной, популяризаторской и рекламной деятельности критика производит отбор и градацию художественных ценностей. Она занимается актуализацией либо, напротив, рутинизацией или даже девальвацией художественного наследия, включая его в духовную ситуацию современности и «вскрывая творческую драму художника под знаком своего времени»1. И, наконец, критика моделирует репутации отдельных авторов и даже целых литературных эпох. С ее помощью создаются и сокрушаются литературные кумиры, утверждаются истинные и ложные авторитеты, возвеличиваются или дискредитируются таланты. Несмотря на множественность и дифференцированность мнений внутри критического дискурса, критике каждого историко-литературного периода за счет своеобразной пульсации смыслов, представлений и оценок обычно удается осуществить хотя бы частичную гармонизацию художественной инфоноосферы своего времени. Особенно ясным это становится в исторической ретроспективе.
Очевидно, что все перечисленные направления оценочной деятельности конкретизируются лишь на уровне индивидуальных критических систем. Поэтому закономерно возникает вопрос: какие именно механизмы используют аналитики для выражения своих аксиологических предпочтений в отдельных литературно-критических текстах или в их совокупности?
Один из самых эффективных способов воссоздания целостной панорамы литературно-художественной жизни — это ценностное моделирование, позволяющее автору предельно наглядно для аудитории выразить свою позицию. В процессе структурирования неоднородного и разнокачественного художественного пространства критик определяет место и значение того или иного эстетического объекта — произведения, писателя, жанра, метода — в литературно-художественной ситуации своего времени, ориентируясь на свое представление о том, каким должно
быть искусство, и на собственную парадигму оценочных координат. Из «элементов» художественного процесса (прошлого и настоящего), которым был присвоен определенный ценностный статус, он «конструирует» целостную модель искусства или какого-то его сектора.
Несущей конструкцией такой модели является пространственно-временная ось координат, где характеристики произведений, авторов, направлений фиксируются в виде «литературных рядов» и литературных вертикалей, а главным «строительным» материалом служат качественные оценки. В пределах «ряда» по горизонтали в хронологической последовательности обозначаются «иерархические в художественном и общественно-функциональном планах пласты словесности»2. Вертикаль дает ранжировку писателей в соответствии с их ролью и местом в современном литературном процессе с учетом ретроспективы и перспективы литературного развития.
Чтобы создать подобную модель, критику необходимо осмыслить целый комплекс взаимосвязанных проблем: во-первых, определить параметры оценки такого специфического явления, как произведение искусства; во-вторых, найти основания для субординации художественных ценностей; в-третьих, выбрать формы репрезентации в критическом тексте результатов своей теоретической рефлексии.
Любая гуманитарная дисциплина, имеющая своим предметом литературу как вид искусства, сталкивается с теми же вопросами. Однако если исходить из того, что критика — это отдельная область деятельности и специфический род литературных занятий, то придется признать: пути решения названных проблем в критике и в науке будут неодинаковы.
Первое принципиальное различие связано с самим термином «литературный ряд». В критике и в литературоведении он имеет разное смысловое наполнение3. Это было зафиксировано еще Ю.Н. Тыняновым, который не только ввел данное понятие в научный оборот, но и всегда четко разграничивал, о чем собственно он ведет речь — об оценке достижений писателя и определении его места историко-литературной наукой или о принципах конструирования «литературных рядов» в критических работах.
В своем теоретическом труде «О литературной эволюции» (1927) Ю.Н. Тынянов свя зывал данное понятие с проблемой эволюции, исторической изменчивости и функциональной соотнесенности литературных явлений как элементов общей системы. С одной стороны, его представление о «ряде» предполагает наличие общего историко-литературного контекста, куда и вписывается изучаемое явление. С другой стороны, чтобы претендовать на достоверность, оценки литературных фактов не должны быть ни качественными, ни абсолютными. Они определяются тем, какое место занимает явление в литературной эволюции и насколько характерно оно для своего времени. Ю.Н. Тынянов предупреждал о наивности оценок, производимых «из одной эпохи-системы в другую» и о научной нецелесообразности построения замкнутых «литературных рядов», основанных на ценностном подходе к художественным объектам.
В современной филологии, во многом благодаря усилиям С.И. Кормилова, в течение нескольких последних лет оживился интерес к проблеме «литературного ряда». Ее пытаются осмыслить в теоретическом аспекте и даже перевести в практическую плоскость 4. В.Е. Хализев отмечает, что в настоящее время «опыты выстраивания литературных фактов в некие иерархии предпринимаются весьма настойчиво»5.
В процессе создания или исследования литературных иерархий современные теоретики чаще всего привлекают для аргументации своих позиций два типа разнородных оценок, не дифференцируя их. Как правило, широко используются оценки, суждения, характеристики, которые в разное время давала писателям и произведениям критика, и одновременно вводятся оценки, основанные на критериях художественности, вырабатываемые современной наукой. Однако в аспекте обсуждаемой нами темы принципиально важно, какие цели преследуются при «встраивании» оценки в иерархическую структуру «ряда». Наука всегда стремиться к объективности и по мере возможности учитывает противоречивый нелинейный путь культурной эволюции, динамику общественно-исторического сознания и собственно эстетические закономерности развития искусства, так как озабочена созданием возможно более полного представления о нем. «А критика, по самой своей сути, — и это было мощно продемонстрировано Бартом в его статье («Критика и истина». — О. Ш.)... не является и не может быть исторической, потому что она всегда состоит в интерпретации... в навязы- ванию смысла произведению. Такое отношение между критикой и произведением — обязательно анахроническое в буквальном (а для историка неприемлемом) смысле этого термина»6. Так, С.И. Кормилов, называя «ряд» важнейшим, хотя и не единственным показателем литературного развития, считает целесообразным при создании научной истории предмета давать «характеристику всех рядов словесности того или иного периода» — от классики до массовой культуры. Но он же предупреждает, что «по возможности желательно учитывать как сам факт существования специализированных рядов словесности, так и их подвижность и историческую взаи-мопроницаемость»7.
Критика, в силу своего идеологического потенциала как рода журналистской деятельности, с помощью «литературных рядов» выстраивает такую модель искусства, которая обладает двумя неотъемлемыми свойствами. Она является значительно мифологизированной, целостно отражающей в первую очередь представления субъекта, а не только реальные качества объекта. В данном случае под мифологизацией также имеется в виду «абсолютизация и наделение онтологически независимым статусом условных по своей сути аксиологических построений», «создание предельных, стремящихся к абсолюту и всеобщности, смыслов и значений»8, которые претендуют на то, чтобы быть инкорпорированными в сознание реципиента с целью стать для него средством духовно-практического освоения художественного пространства.
Кроме того, по отношению к аудитории эта модель может быть охарактеризована как манипулятивная9. Ее «элементы» располагаются в таком порядке и обозначаются таким образом, чтобы, воздействуя на рациональные и бессознательные уровни мышления читателя, заранее задать смысловой и эмоционально-чувственный горизонт восприятия картины современной художественной жизни.
Второе отличие заключается в том, что критика и наука неодинаково подходят к интерпретации самого понятия «качественная оценка» и к возможности его использования в ходе структурирования культурного поля.
Так, М. Вебер настаивал на принципиальной невозможности сравнивать ценности разных национальных культур 10. А, к примеру, Ю.Н. Тынянов полагал, что понятие качества вообще не может быть применимо при характеристике искусства. Он высказал серь езные опасения, что опора на теорию ценностей в литературной науке приведет к изучению «истории генералов», когда внимание исследователей будет сосредоточено лишь на главных и оттого разрозненных художественных явлениях, из которых нельзя будет составить представления об общей эволюции литературы 11. Однако, теоретически отвергая возможность имманентного изучения произведения и субъективных эстетических оценок в научном исследовании 12, он признавал правомерность подобного подхода в критике, «потому что соотнесенность современного произведения с современной литературой (а не с историко-литературным контекстом. — О. Ш.) — заранее предусмотренный и только замалчиваемый факт. (Сюда относится соотнесенность произведения с другими произведениями автора, соотнесенность его с жанром и т. п.) 13.
При этом в современной науке устойчивым является мнение, что оценки должны основываться в первую очередь на эстетических достоинствах, на «степени художественного совершенства произведений и их роли в литературном процессе»14.
Для критики качественная оценка также всегда оказывается принципиально важной. Так, М.Е. Салтыков был убежден, что в роли «ценовщика» «только критика сможет провести ту разделительную черту, которая существует между гг. Тургеневым и Клюшниковым»15. Однако содержание понятия качественной оценки здесь иное. Это происходит потому, что, включая художественный объект в духовную ситуацию своего времени, она приводит «горизонт ожидания», закодированный в произведении, в соответствие с «горизонтом ожидания» нынешней читательской аудитории и порождает созвучные времени новые смыслы или обогащает ранее выявленные значения художественных феноменов. Ведь критика «рассматривает произведения искусства, независимо от эпохи их создания, как актуально живые силы, формирующие современность»16.
Отсюда стержнем для построения ею вертикальных и горизонтальных «рядов» служат не только степень талантливости автора или эстетическое совершенство его творений. Это может быть актуальный для самого критика, общества, какого-либо этапа культурного развития признак. К примеру, злободневность тематики, соответствие/несоответствие доминирующей стилевой тенденции, жанровое новаторство, внятность выражения писа- тельского миросозерцания 17. Идеологически, а порою и экономически ангажированная и публицистически активная критика вообще не слишком склонна к объективности. Ее оценки часто бывают векторно сориентированы либо на индивидуально-личностную позицию автора, либо на редакционные, корпоративные коммерческие интересы, хотя обычно действует целый комплекс факторов.
Следует учесть и разность аудиторной составляющей. Критика делает упор на опыте чтения художественного текста, оценивая «смысл и эффект этих произведений для читателя компетентного, но не обязательно ученого и профессионального. Критика ценит, судит; ее средствами являются симпатия (или антипатия), самоотождествление, самопроекция»18. Периодическое издание, которое служит для нее «идеальным местом», также может существенно влиять на оценки. Поэтому используемые критикой при моделировании «литературных рядов» оценки почти всегда субъективно окрашены, ценностно ориентированы и, по сравнению с наукой, являются более редуцированными, а порою и лишенными серьезной логической мотивации и основанными преимущественно на эмоционально-чувственном восприятии текста.
Созданием разного рода иерархий критика начала заниматься почти с самого момента своего зарождения 19. Это адекватный ее аксиологической сущности и функциональному назначению прием. Отчасти именно для подобных нужд ею были выработаны специальные жанры — литературное обозрение и параллель. Последняя и представляет собою статью о двух или нескольких писателях и произведениях, сравниваемых между собою. Б.Ф. Егоров, проведя анализ жанра параллели в работах XIX века, отметил приверженность к выстраиванию иерархий В.Г. Белинского, и в особенности Д.И. Писарева, М.А. Антоновича, А.А. Григорьева20. Исследователь объясняет этот факт преимущественно причинами личного свойства: контрастностью мышления Белинского и романтической прямолинейностью, полемическим задором Писарева.
Представляется, что необходимо указать и на более общий источник подобных пристрастий — аксиологическую природу самой критики. К примеру, в пределах одной статьи последовательно характеризуются два писателя без предварительной установки сравнить их или одного поставить выше (ниже) дру гого. Однако это все равно происходит, так как контекстуально возникает ситуация сопоставления. М. Вебер утверждал, что описания, функционирующие в определенной системе координат (в нашем случае это система представлений об искусстве), становятся ценностно окрашенными (оценочно-описательными, акцентуированными), хотя и не переходят в разряд оценок. Он подчеркивал, что таковыми являются едва ли не все описания в науках о культуре.
Образцы иерархического структурирования литературного ландшафта можно найти у представителей самых разных критических течений, и притом в работах несхожих жанровых форм — в обозрениях, полемических, проблемных, теоретических статьях, в циклах и даже рецензиях. Яркими примерами могут служить «Пантеон российских авторов» Н.М. Карамзина, обзоры А.А. Бестужева, вступление к «Физиологии Петербурга» В.Г. Белинского, работа М.Е. Салтыкова о Я.П. Полонском (1869). М.Е. Салтыков, как известно, считал, что критического исследования достойны авторы с любым уровнем одаренности. Однако он не только в процессе практического анализа, но и теоретически четко разграничивал писателей по степени талантливости и их вкладу в развитие словесности. В своих рецензиях критик выделяет «мастеров» («инициаторов», «сильные энергичные таланты»), «подмастерьев» («второстепенных писателей», «скромную музу»), «ремесленников» и «чернорабочих»21. Пример более масштабного пространственно-временного моделирования — пушкинский цикл В.Г. Белинского. В нем «творчество поэта преимущественно актуализируется и выстраивается (ретроспективно и перспективно) в историко-литературном плане с определением его места в этом ряду»22.
В наследии Ю.Н. Тынянова есть наглядные образцы «литературных рядов» даже в пределах одной критической работы. В статье «Литературное сегодня» (1924), обозревая пеструю художественную панораму первой половины двадцатых годов, критик предельно четко кроит ее по всем направлениям. Его цель — выявить привлекательные для читателей и продуктивные для дальнейшего развития самой литературы «нужные узлы», которые к тому времени уже наметились в словесности, рожденной советскими историкокультурными обстоятельствами.
Он выделяет литературный «верх». Это талантливые оригинальные писатели, сумев- шие удержаться на уровне психологической прозы XIX века и даже в чем-то развить ее традиции, — К. Федин, И. Шмелев, Б. Пастернак, а также Е. Замятин со своей «сатирической утопией» «Мы», высоко оцененной критиком как несомненная удача автора еще до выхода романа.
Середину «ряда» занимают «крепкий писатель» Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, О. Форш, М. Шагинян. У них отмечаются как сильные стороны — богатая лексика, эмоциональность, так и недостатки, например излишняя нетворческая традиционность.
Список литературы Моделирование художественного пространства в литературно-критическом дискурсе
- Гроссман Л.П. Цех пера. Эссеистика. М., 2002. С. 235.
- Кормилов С.И. Литературные ряды//Современный словарь-справочник по литературе/Сост. и науч. ред. С.И. Кормилов. М., 2000. С. 263.
- Дранов А.В. Литературный ряд//Западное литературоведение ХХ века: Энцикл. М., 2004. С. 224-225.
- Кормилов С.И. О соотношении «литературных рядов» (опыт обоснования понятия)//Известия АН. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 60. ¹ 4. С. 10-11.
- Кормилов С.И. Русская литература 20-90-х годов ХХ века: основные закономерности и тенденции//История русской литературы ХХ века (20-90-е годы). Основные имена/Отв. ред. С.И. Кормилов. М., 1998. С. 18-20;
- Он же. Литературные ряды. С. 263-267.
- Хализев В.Е. Теория литературы. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2002. С. 156.
- Жаннет Ж. Поэтика и история//Жаннет Ж. Фигуры. М., 1998. С. 11.
- Кормилов С. Мировая литература, литературные ряды и их история//Вопросы литературы. 1997. № 3-4. С. 41.
- Полякова Л.В. «Что такое классик?»: к проблеме ценностного канона в отечественном и зарубежном литературоведении//Русское литературоведение в новом тысячелетии: Материалы Третьей Международной конференции. Т. 2. М., 2004. С. 346-349.
- Коршунов Г.П. Миф//Социология: Энцикл. Минск, 2003. С. 571, 575.
- Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2000;
- Полосин В.Г. Миф, религия, государство. М., 1998;
- Ульяновский А.В. Социальный миф как бренд: антропология, эстетика, на границах запрета, etc: В 2 т. Спб., 2003;
- Цуладзе А. Политическая мифология. М., 2003.
- Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 725-726.
- Вопросы литературы. 1996. № 5-6;
- Там же. 1997. № 3.
- Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции//Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993. С. 138.
- Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 5. М., 1966. С. 356.
- Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки: Пер. с фр. М., 1970. С. 314.
- Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл: Пер. с фр. М., 2001. С. 24.
- Сент-Бев Ш. Что такое классик?//Сент-Бев Ш. Указ. соч. С. 310-325.
- Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль. Л., 1980. С. 176-202.
- Тихомиров В.В. Русская литературная критика ХIХ века: проблемы критического метода: Дис.... д-ра филол. наук. Новгород, 1997. С. 45.
- Тынянов Ю.Н. Литературное сегодня//Тынянов Ю.Н. Указ. соч. С. 257.
- Аннинский Л.А. Наклон судьбы. О прозе Андрея Скалона//Аннинский Л.А. Локти и крылья: Литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы. М., 1989. С. 114, 115.
- Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 235-236.