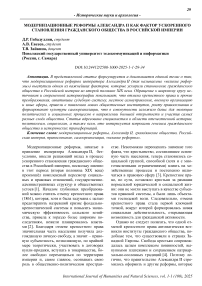Модернизационные реформы Александра II как фактор ускоренного становления гражданского общества в Российской империи
Автор: Гибадуллин Д.Р., Евсеев А.В., Зайкина Т.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 1-1 (100), 2025 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье формулируется и доказывается единый тезис о том, что модернизационные реформы императора Александра II (так называемые «великие реформы») выступили одним из важнейших факторов, которые ускорили становление гражданского общества в Российской империи во второй половине XIX века. Обращение к широкому кругу источников и современной историографии показывает, что отмена крепостного права и прочие преобразования, охватившие судебную систему, местное самоуправление, военную организацию и иные сферы, привели к появлению новых общественных институтов, росту правосознания и формированию культуры самоорганизации, что в совокупности заложило базис для эволюции политических и социальных процессов в направлении большей открытости и участия самых разных слоёв общества. Статья адресована специалистам в области отечественной истории, политологам, социологам, а также всем, кто интересуется вопросами генезиса гражданского общества и исторических трансформаций.
Модернизационные реформы, александр ii, гражданское общество, российская империя, правосознание, самоорганизация, «великие реформы»
Короткий адрес: https://sciup.org/170208935
IDR: 170208935 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-1-1-29-34
Текст научной статьи Модернизационные реформы Александра II как фактор ускоренного становления гражданского общества в Российской империи
Модернизационные реформы, начатые в правление императора Александра II, безусловно, внесли решающий вклад в процесс ускоренного становления гражданского общества в Российской империи, поскольку именно в этот период (вторая половина XIX века) произошёл комплексный пересмотр социальных и правовых отношений, государственноадминистративных структур и общественных устоев [1]. Началом глубинных преобразований можно считать отмену крепостного права (1861), которая, хотя и была задумана с целью предотвратить назревший кризис феодальнокрепостнической системы и повысить экономическую эффективность сельского хозяйства, привела к гораздо более широким последствиям, нежели планировалось властями [2]. Благодаря отмене крепостного права значительная часть населения получила долгожданную личную свободу, а значит – правовую субъектность, позволяющую, по крайней мере теоретически, участвовать в договорах купли-продажи, вступать в товарищества, более свободно перемещаться по территории империи и, самое главное, осознавать свою роль в общественно-политическом простран- стве. Невозможно переоценить значение того факта, что крестьянство, составлявшее основную часть населения, теперь становилось социальной группой, способной (хотя и с многочисленными ограничениями) влиять на хозяйственные процессы и постепенно включаться в правовую сферу [3]. Крепостное право, по сути, оставляло крестьян за рамками нормальной юридической и социальной жизни: они не могли выступать в качестве субъектов правовой системы, а были лишь объектами господской воли. Следовательно, отмена крепостного права стала первой ключевой точкой, вокруг которой формировалась новая социальная действительность, открывающая возможность для гражданской активности.
Однако не следует полагать, что одной отменой крепостного права автоматически возникли институты гражданского общества, подобные тем, что существовали в странах Западной Европы. Свобода крестьян сопровождалась целым комплексом повинностей, выкупными платежами и сохранением патриархально-сословных традиций [4]. Поэтому логично, что правительство Александра II стремилось оформить и другие реформы, которые должны были «поддержать» освобождённых крестьян и обновлённое дворянство в новых правовых отношениях. Судебная реформа 1864 года не только уничтожила многие архаичные и запутанные формы судопроизводства, но и привнесла в российскую практику принципы гласности, состязательности и независимости суда [5]. Эти принципы, впервые закреплённые в законодательстве, обладали мощным воспитательным эффектом: они приучали общество к идее, что правовые споры и конфликты можно решать посредством прозрачных процедур, публичных слушаний и профессиональной адвокатуры, а не благодаря личным связям или административному произволу. Разумеется, на практике эти высокие принципы не всегда реализовывались в полном объёме, но сам факт их провозглашения формировал новый уровень правосознания [6]. Именно в этот период и начались дискуссии о равенстве всех сословий перед судом, о возможности критиковать действия чиновников и добиваться законности. И хотя ряд ограничений продолжал действовать (к примеру, в отношении крестьянских волостей сохранялись особые судебные порядки), судебная реформа, по мнению многих историков, стала фундаментом для будущего движения за создание независимых общественных и правовых институтов [7].
Важнейшим компонентом «великих реформ» является развитие местного самоуправления, прежде всего появление земств по уставу 1864 года [8]. Земства, сформированные на уезде и губернии, хотя и были органами сословного представительства (с преимуществами для дворянства), тем не менее привнесли совершенно новую культуру общественного участия. Если в предыдущие эпохи местные дела решались в основном чиновниками, чья деятельность ограничивалась распоряжениями из центра, то теперь в задачу земств входило развитие народного образования, здравоохранения, ветеринарии, улучшение дорог и мн. др. Таким образом, на местах возникла почва для самостоятельной постановки вопросов, распределения бюджета, использования общественной инициативы. В рамках деятельности земств формировался механизм общественной дискуссии: представители разных сословий (хотя в разной степени) участвовали в заседаниях, выносили и об- суждали вопросы развития, вели деловую переписку, искали компромиссы. Понятие «общественного блага» начинало наполняться реальным содержанием, ведь решения о строительстве школ или больниц принимались самими земствами, а не только центральной властью [9]. Этот опыт коллективного управления, пусть и урезанного сословными ограничениями, фактически становился лабораторией гражданского общества, позволяя вырабатывать навыки координации и солидарности, которые прежде были малодоступны подавляющему большинству подданных. Горо-довая реформа 1870 года продолжила логику земских преобразований, перенося аналогичные принципы самоуправления в сферу городского управления [10].
Городские думы и управы, формируемые на выборной основе (хотя и с имущественными цензами), создавали новое пространство для самоорганизации, где взаимодействовали мещане, купцы, ремесленники, а иногда и интеллигенция. В результате в городах начала развиваться публичная сфера, тесно связанная с необходимостью решать широкий круг насущных вопросов (транспорт, благоустройство, торговля, гигиена, образование). Особый интерес представляет тот факт, что именно в городах стали появляться объединения по интересам – профессиональные, культурные, благотворительные, которые частично взаимодействовали с городскими органами самоуправления, запрашивали финансирование или просто искали партнёров для реализации инициатив. Если говорить о становлении гражданского общества, то такая практика общественных объединений свидетельствовала о том, что государственные органы уже не являются единственным источником регуляции общественной жизни, и что само общество способно организовываться, решая конкретные проблемы [11].
Помимо отмены крепостного права, судебной и земской реформ, следует упомянуть военную реформу 1874 года, которая ввела всеобщую воинскую повинность [12]. С точки зрения исследования гражданского общества, этот шаг, несомненно, имел значение для уравнивания различных сословий в плане выполнения военного долга перед государством. Хотя привилегии дворян во многом сохранялись, всё же сам принцип, согласно которому служить должны все, менял представление об ответственности перед государством и обществом [13]. Помимо этого, нормы всеобщей воинской повинности косвенно способствовали распространению грамотности, отчасти создавали предпосылки для формирования единой «нации в мундирах», сталкивая людей разных сословий и регионов, побуждая их к взаимному общению и культурному обмену. В дальнейшем эти контакты за пределами казарм и военных частей могли укреплять связи между бывшими сослуживцами, что в ряде случаев расширяло социальные сети и способствовало становлению новой политической культуры [14].
Нельзя обойти вниманием и развитие печати, ослабление цензуры в первые годы правления Александра II: именно в этот период в стране стали массово распространяться периодические издания, журналы и газеты, в которых обсуждались проблемы реформ, состояние сельского хозяйства, политические новации в Европе и пр. [15]. Либеральная и радикальная интеллигенция, столкнувшись с появлением трибуны, начала продвигать общественно-политические дискуссии, привлекая читателей к важнейшим вопросам развития России. Конечно, в 1860-х и 1870-х годах царское правительство периодически ужесточало цензуру, опасаясь роста революционной пропаганды, но даже эти ограничительные меры уже не могли полностью подавить процесс формирования более свободного информационного поля [16].
Повышение уровня грамотности (особенно в городах) и постепенное появление читательской аудитории способствовали тому, что статьи, брошюры и памфлеты о необходимости дальнейших реформ получили относительное распространение. И хотя государственные репрессии против наиболее радикальных авторов не прекращались (особенно после покушений на императора), общая тенденция к расширению гражданской и политической дискуссии была очевидна [17]. Это означало, что «великие реформы» Александра II задали своеобразный вектор открытости, в котором общество уже не являлось абсолютно безмолвным объектом.
Заметную роль в формировании гражданского общества сыграл и рост числа общественных организаций, от благотворительных и профессиональных союзов (земские врачи, учителя, инженеры) до кружков просветительского и даже политического характера [18]. Такие объединения часто возникали на базе новых правовых возможностей, появлялись под влиянием развития земских и городских структур. Люди начали видеть, что через совместные действия, коллективные прошения, обсуждения на публичных собраниях можно добиваться реальных результатов – будь то улучшение санитарных условий в больнице или создание начальной школы в отдалённом уезде [19].
Разумеется, вплоть до начала XX века Россия оставалась авторитарным государством без полноценного парламента, однако за счёт новых практик самоорганизации формировалась среда, где всё меньше вопросов воспринималось как незыблемая прерогатива самодержавия. Рассмотрение общественных нужд, развитие элементарного правосознания, дискуссии о необходимости конституционных преобразований (пусть и в частных кругах) – всё это свидетельствовало о том, что благодаря реформам Александра II общество приобретало более сложную внутреннюю структуру, где начинает «подрастать» осознание собственных интересов и прав [20].
Многие отечественные исследователи конца XIX – начала XX века (например, П.Н. Милюков) указывали на то, что при всех недостатках и половинчатости действий правительства Александра II, именно этот период заложил предпосылки для возможного (хотя и отложенного во времени) перехода России к конституционно-парламентской системе [21]. В их работах подчёркивается, что судебные уставы, земства и городские думы, а также всеобщее воинское обучение, постепенно меняли представление людей о месте государства в их жизни, снижая роль традиционной патриархальной зависимости от бюрократии и провинциальной администрации. Более того, определённая либерализация информационного пространства способствовала тому, что люди начинали осознавать ценность публичной дискуссии [22].
Западные исследователи (например, Р. Пайпс и другие), анализируя социальные и политические последствия «великих реформ», замечали противоречивый характер российских модернизационных процессов: с одной стороны, огромное влияние автократии и консервативных кругов, а с другой – очевидный подъём либерального и даже революционного движения [23].
Тем самым реформы Александра II, по вы- ражению ряда историков, «раскачали лодку»: общество вкусило хотя бы часть свобод, начало обсуждать проблемы государства на страницах прессы и внутри самоорганизующихся институтов. Ключевой особенностью эпохи Александра II и проводимых им преобразований было то, что они «сверху» формировали условия для динамичных процессов «снизу» [24]. Если реформы Николая I носили скорее консервативный и точечный характер, направленный на укрепление бюрократической вертикали, то Александр II, пусть и вынужденно, пошёл по пути открытия ряда дверей, через которые в общество могло проникать представление о самоорганизации и, в определённой мере, о гражданской свободе.
Именно в правление Александра II в России начинают обсуждать такие темы, как «общественное мнение», «государство и граждане», «личная неприкосновенность» [25]. Разумеется, говорить о полном расцвете гражданского общества в условиях сохранения самодержавия не приходится; тем не менее предпосылки для ускоренного развития этого феномена были заложены.
Таким образом, единый тезис о том, что модернизационные реформы Александра II ускорили становление гражданского общества, опирается на систематический анализ нескольких взаимосвязанных факторов: во-первых, отмена крепостного права заложила социальную базу для правовой субъектности крестьян; во-вторых, судебная реформа сформировала принципы открытого и независимо- го правосудия, которые в перспективе повлияли на самооценку граждан перед законом; в-третьих, земские и городские реформы дали начало структурированным формам местного самоуправления, способствующим развитию публичной сферы; в-четвёртых, военная реформа и рост печатного слова создали условия для более широкой коммуникации между сословиями и появления зачатков «общества равных», несмотря на все сословные препятствия; наконец, в-пятых, возникновение новых общественных объединений и профессиональных союзов означало, что общество стало способным к самоорганизации и реализации коллективных интересов. Все эти факторы, действуя в совокупности, ускорили тот процесс, который в более полном виде раскрылся уже в начале XX века, когда требование конституционных реформ, парламентского устройства и гражданских свобод оформилось в явном виде. Именно поэтому «великие реформы» Александра II можно рассматривать не как изолированное явление, а как объединённый комплекс модернизационных изменений, которые коренным образом трансформировали институты и сознание людей, открыв дорогу к эволюции гражданского общества в России.
Список литературы Модернизационные реформы Александра II как фактор ускоренного становления гражданского общества в Российской империи
- Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. Часть XX. - СПб.: Императорская Академия наук, 1870.
- Ключевский В.О. Курс русской истории. - М.: Издание автора, 1871.
- Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. - СПб.: Типография «Наука», 1880.
- Трубецкой С.Н. Земские учреждения и их роль в общественном развитии. - СПб.: Типография Ю.Н. Эрлих, 1885.
- Унковский Н.С. Городские думы и их значение для России. - М.: Университетская типография, 1890.