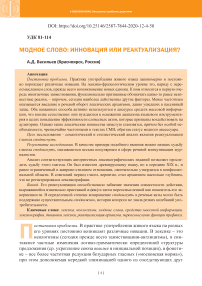Модное слово: инновация или реактуализация?
Автор: Васильев Александр Дмитриевич
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Языкознание. Актуальные проблемы русистики
Статья в выпуске: 4 (12), 2020 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Практика употребления живого языка закономерно и постоянно порождает различные новации. На лексико-фразеологическом уровне это, наряду с переосмыслением слов, прежде всего возникновение новых единиц. К ним относятся в первую очередь иноязычные заимствования, функционально призванные обозначать какие-то ранее неизвестные реалии, - впрочем, сегодня наиболее действенны другие факторы. Менее частотным оказывается введение в речевой оборот лексических архаизмов, давно ушедших в пассивный запас. Оба названных способа активно используются в дискурсе средств массовой информации, что вполне естественно: они нуждаются в освежении диапазона языкового инструментария в целях повышения эффективности словесных актов, которые призваны воздействовать на аудиторию. Однако такие лексические новшества зачастую становятся, причем без особой необходимости, чрезвычайно частотными в текстах СМИ, обретая статус модного аксессуара. Цель исследования - семантический и стилистический анализ явления реактуализации глагола сподвигнуть. Результаты исследования. В качестве примера подобного явления можно назвать судьбу глагола сподвигнуть, оказавшегося весьма популярным в сфере речевой коммуникации журналистов. Анализ соответствующих авторитетных лексикографических изданий позволяет проследить судьбу этого глагола. Он был известен древнерусскому языку, но к середине XIX в., и ранее ограниченный в жанрово-стилевом отношении, окончательно утвердился в конфессиональной области. В советский период глагол, вероятно, стал архаизмом настолько глубоким, что не регистрировался лексикографами. Вывод. Его реактуализации способствовало забвение значения совместности действия, выражавшейся изначально приставкой с-(со-) и затем переосмысленной как показатель его завершенности. В определенной степени возвращение сподвигнуть в речевые акты могло быть поддержано существительным сподвижник, история которого не знала резких колебаний употребительности.
Лексика, неологизмы, модные слова, средства массовой информации, лексикография, динамика лексики, реактуализация архаизма, переосмысление функции префикса
Короткий адрес: https://sciup.org/144162021
IDR: 144162021 | УДК: 81-114 | DOI: 10.25146/2587-7844-2020-12-4-58
Текст научной статьи Модное слово: инновация или реактуализация?
DOI:
Постановка проблемы. В практике употребления живого языка на разных его уровнях постоянно возникают различные новации. В лексике – это неологизмы (сегодня прежде всего заимствования-англицизмы), в синтаксисе частные изменения логико-грамматически определенной структуры предложения (ср. укрепление союза также в инициальной позиции), в фонетике – все более частотная редукция безударных гласных («московская норма»), при этом дополняемая нередкой элиминацией одного из соседствующих друг с другом согласных ([вᴧшʼэ́] и т.п., хотя следует отметить и вероятные диалектные истоки ряда аналогичных явлений – [чо] и проч.). Некоторые изменения происходят и в словообразовании, хотя они вряд ли имеют системный характер и обычно выражаются лишь в некоторой модификации аффиксальных элементов, точнее, в их неузуальном включении в состав слова; впрочем, здесь вполне возможны и случаи актуализации лексем и их конструкций, казалось бы, ушедших в пассивный инструментарий языка.
Прежде чем приступить к анализу конкретного примера, укажем хотя бы две тенденции, отчетливо заметные в сегодняшней русскоязычной вербальной коммуникации. Обе они могут быть квалифицированы как реализации псевдорито-рических приемов.
Первая – это, конечно, гиперонимизация, то есть массовое предпочтение каких-то родовых номинаций как семантически более широких, охватывающих обширную смысловую область, по сравнению с некими видовыми именованиями, маркирующими относительно небольшие участки реальности, на которых должно было бы фокусироваться внимание коммуникантов с целью действительно продуктивного речевого общения (ср. ряд примеров в [Васильев, 2019, с. 58– 90; и др.]). Полагают, что «гиперонимизация важнейшее направление в семантическом расширении слов, его влияние на развитие мышления велико» [Колесов, 2004, с. 210]. Памятуя о постоянном взаимном влиянии языка и мышления, следует иметь в виду, что закономерным результатом высокой употребительности гиперонимов становится естественное забвение гипонимов, гораздо четче дифференцирующих и материальное бытие, и особенно внутренний мир человека. Иначе говоря, как будто спонтанно совершается операция, описанная в известной антиутопии: «…задача новояза – сузить горизонты мысли <…>. С каждым годом все меньше и меньше слов, все у́же и у́же границы мысли <…>. Мышления в нашем современном значении вообще не будет» [Оруэлл, 1989, с. 52]. И «правоверный не мыслит не нуждается в мышлении» [Там же], что, конечно, существенно упрощает решение внутригосударственных задач, вполне комфортное для «элиты», в выступлениях представителей которой тоже наблюдаются черты гиперо-нимизации а ведь этот дискурс является зачастую эталонным для многих «рядовых носителей языка» [Голев, 2008, с. 5, 16] (впрочем, надо заметить, что подобные процессы характерны и для иноязычных речедеятелей, например еврочиновников [Васильев, 2018, с. 34–35]).
Вторая из упомянутых тенденций – и на первый взгляд будто бы противостоящая первой – может быть условно терминологизирована как своеобразная амплификация. Это намеренная и искусственная избыточность средств выражения, заведомо не являющаяся необходимой с точки зрения эффективности вербализации предполагаемых интенций адресанта. Амплификация интересна в психолингвистическом, риторическом и иных аспектах.
Обзор литературы. Произнесение высказывания вообще – один из наиболее доступных способов самореализации (ср. к тому же социально-ролевую функцию жаргонизмов; терминоидов, имитирующих наукообразие; агнони-
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 4 (12)
мов в политической пропаганде; наконец, так называемых «модных слов», или «слов-метеоров» [Комлев, 2003, с. 187]). Подобное стремление в известном ранее фантастическом романе – «привычку говорить во что бы то ни стало» объясняется «желанием утвердить перед другими свою личность. Кроме того, извергая потоки слов, человек получал психологическую разрядку, необходимую в этом мире постоянного угнетения и раздражения» [Ефремов, 1989, с. 320]. Известны и статусно обусловленные факторы целенаправленного многословия. Например, бурные речевые потоки политических лидеров нередко малосодержательны (как горбачевские монологи), либо маскируют какие-то детали, не подлежащие акцентированию («Где умный человек прячет камешек?» <…> – «На морском берегу» [Честертон, 1980, с. 77]).
Искусственное наращивание внешнего объема речевого акта при его скромном внутреннем содержании происходит и за счет использования «слов-паразитов» (хотя и несущих подчас некую функциональную нагрузку, – см. [Васильев, 2000, с. 62–72; 2003, с. 91–103]), и даже служебных слов, ср. положение с …, ситуация с …, кризис с …, или: курсы по …, план по …, штаб по … и т.п.
Вероятно, аналогичные явления можно наблюдать и в современном использовании полнозначных слов, становящихся частотными.
Цель исследования – семантический и стилистический анализ явления реактуализации глагола сподвигнуть.
Результаты исследования. Рассмотрим в качестве примера употребление глагола сподвигнуть , распространенное по крайней мере с 2019 г. В телевизионном дискурсе: «Что вас сподвигло [бросить курить]?» (Отражение. ОТР. 05.06.19. Примечательно, что этот вопрос ведущие передачи задают собеседнику-зрителю почти синхронно и с одинаковой полуироничной интонацией). – «Никто их [руководителей институтов] к этому [уходу с должностей] не сподвигнул » (М. Румянцев, и.о. ректора СФУ. Новости. 7 канал. 31.07.19). – «Внезапное наводнение сподвигло жителей на обустройство защитных сооружений» (Новости. Ren.TV. 16.08.19). «Это сподвигло Бочкину к стахановским подвигам» (Т/с «След», «Тупик памяти». 5 канал. 05.09.19). «Что сподвигло мужчину открыть огонь?» (Новости. ТВК. 24.12.19); в переводной кинореплике: «Что тебя сподвигло ?..» («007: СПЕКТР»). – «Что сподвигло истца обратиться?..» (Тест на отцовство. Домашний. 07.02.20). – «Что сподвигло подростка на такой поступок…» (Воскресные новости. ТВК. 19.04.20). «Эпизод, который меня окончательно сподвиг …» (О. Молчанова. Прямой эфир. 17.06.20). – «Что его сподвиголо на такой поступок...» (Новости. ТВК. 16.10.20). «Что сподвигло вас обратиться?» (На самом деле. 1 к. 19.10.20). «Я не знаю, что его сподвигнуло ...» (НТВ. 24.10.20) и др. В печатной периодике: «Погода в Нижнем Новгороде сподвигла на рекорды» (РГ Неделя. № 45 (7803) 28.02.19. С. 16) и т.п.
Может создаться впечатление, что глагол сподвигнуть , не регистрируемый авторитетными словарями на протяжении длительного времени, является продуктом новейшего словопроизводства. Однако исторический анализ дает иные результаты.
В древнерусском языке известны подвигнути – «…3) ʽпобудить, склонить, принудить к чему-лʼ: „Нъ да не въ отчаяние я въведет глаголением, нъ да въ покаяние подвигнет”. Златостр., 37. XII в. <…> „Хощу рещи, о друзи и братия, повесть, иже не точию человеки, но и безсловесныя скоты, и нечювственое камение может подвигнути на плач”. Пов. Ник. Зар. (Лих.)1, 23.XVII в. ~ XVI в.» [СлРЯ XI–XVII вв., 1989, вып. 15, с. 228] – и сподвигнути – «1) ʽпобудить к движению, действиюʼ. „Младеньць видѣнъ бысть, Слово сыи превѣчное, вълхвы съподвиг-нувъ от Пьрсиды на поклонение <…>”. Мин. Дек.1, 497. XII в. „Сего ради… та-коже умыслихъ нѣчто тобѣ отъ малыхъ написати <...>, сподвигнути слово или дѣло народное <…> къ своей вѣчности…” (Посл. Карп. лет. Дан.) Сб. Друж., 108. XVI в.» [СлРЯ XI–XVII вв., 2006, вып. 27, с. 53].
На рубеже XVIII–XIX вв. лексикографы фиксируют подвигнуть в статье глагола двигать : «…2) в славен. и высоком слоге прош., буд. и неопред. однократ-ныя: подвигнул и подвигъ , подвигну , подвигнуть : ʽвозбуждать кого противу другого, или к чемуʼ. „Подвигнуть кого похвалами къ добродѣтели, наградою къ тру-дамъ, почестями къ великимъ подвигамъ”. „Подвигнуть слезами къ милосердiю”» [САР2, ч. IV, с. 236]; сподвигнути здесь не приводится.
В середине XIX в. академический словарь предлагает глаголы подвинуть (в статье подвигать [Сл1867, т. 3, с. 528]) и сподвигнути в статье сподвизати : «церк. ʽвозбуждать к соучаствованию в подвигеʼ» [Сл1867, т. 4, с. 423].
У В.И. Даля «црк. подвиза́ ть , подви́ нуть и подвигнуть кого на что ʽпобудить, заставить сделать что, преклонить к чемуʼ». «Что подвигло тебя на такой посту-покъ?» [СлДаля, 1955, т. III, с. 164], а сподвигнуть (в статье сподвизати ) кого на что ʽпобуждать, поощрять, одушевлять, ободрять, направить на какую-либо деятельностьʼ; сподвизатися – ʽсоподвизаться, соратовать, соусердствовать, сорев-новать комуʼ // ʽподвизаться на каком-либо поприщеʼ [СлДаля, 1955, т. IV, с. 293].
В XX в. советский толковый словарь содержит подвигнуть «книж. торж. устар. ʽпобудить, склонить к совершению чего-н.ʼ „П. на борьбу”» [СУ, 1939, т. 3, с. 369]; глагол сподвигнуть не зарегистрирован.
Несколько поздне́е академический словарь фиксирует подви́ гнуть «устар. ʽпобудить, склонить к совершению чего-либоʼ» [БАС1, 1960, т. 10, с. 271], причем все примеры употребления сло́ва заимствованы из произведений русской классики XIX столетия; глагол сподвигнуть не приведен.
Последний академический толковый словарь советской эпохи дает подвигнуть «устар. ʽсклонить к совершению чего-л., побудитьʼ». «И если я наполнил жизнь борьбою За идеал добра и красоты, <...> – О, мать моя, подвигнут я тобою!» (Некрасов) [МАС2, 1983, т. 3, с.178]; глагол сподвигнуть отсутствует.
Можно говорить о том, что глагол подвигнути ( подвигнуть ) изначально обладал некоей торжественно-приподнятой коннотацией, выступая в текстах религиозно-учительной принадлежности, однородных в жанрово-стилевом отношении, как переводных, так и оригинальных. Эта окрашенность сло́ва сохранилась и в XVIII–XIX вв., о чем свидетельствуют лексикографические пометы
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 4 (12)
с л а в е н. и в ы с о к и й с л о г [САР2] и ц е р к. [Сл1867; СлДаля]. Сто́ит сказать, что первые две из упомянутых, по крайней мере, отчасти дублируют друг друга (см. [Замкова, 1975, с. 21]), а хронологически позднейшая носит не столько генетический, сколько функционально-стилевой характер. Словари советского периода, лишь в начале его указав на ограниченность сферы употребления глагола, последовательно маркируют подвигнуть как архаизм.
Наряду с этим заслуживает внимания отсутствие лексикографических фиксаций глагола сподвигнуть в авторитетных изданиях вплоть примерно до середины XIX в., – как и его исчезновение из крупных толковых словарей XX в. Вряд ли такие результаты могут быть всецело объяснены недостаточным тщанием некоторых специалистов-составителей.
Сто́ит напомнить, что один из устойчивых семантических элементов глагола с приставкой съ- (после падения редуцированных пережившей трансформацию в с- , со- [Якубинский, 1953, с. 144]) – это обозначение совместного выполнения некоего действия, остающееся актуальным и в современном русском языке. Ср. глаголы с префиксом со- обладают значением «совместно совершить (или совершать) действие, названное мотивирующим глаголом» [Русская грамматика, 1980, с. 371].
Такая семантика не отражена в статье глагола сподвигнути в [СлРЯ XI–XVII вв.] (см. выше), но очевидно присутствует в том же словаре при толковании возвратного сподвигнутися – «1) ʽв м е с т е подняться, двинутьсяʼ. „И вскоре сославшеся сподвигошяся от всех градов, со всеми своими воинствы поидошя к царствующему граду на отмщение крови христианскиа”. Сказ. Авр. Палицына1, 215. 1620 г.» [СлРЯ XI–XVII вв., 2006, вып. 27, с. 53].
Тот же смысловой элемент участвует в семантизации глагола сподвигнути / сподвизати в XIX в., когда говорится о с о в м е с т н о м участии в подвиге (со-участвовании) [Сл1867] либо толкование производится за счет перечисления синонимических глаголов с тем же префиксом со- , также обозначающих не индивидуальное, но именно групповое (иначе говоря совместное) действие, – ср.: соратовать ʽбыть чьим соратным товарищемʼ, соревновать ʽ…совместничать, ревностно стремиться за другимиʼ [СлДаля, 1955, т. IV, с. 274].
Весьма вероятно, что по истечении времени носителями языка приставка с- в глаголе сподвигнути перестала осознаваться как указатель с о в м е с т н о г о выполнения называемого действия, но начала пониматься в качестве сигнала одноразового действия («однократно совершить действие, названное мотивирующим глаголом» [Русская грамматика, 1980, с. 370]), что акцентируется и суффиксом -ну- , и / или (что еще более возможно) сигнала окончательности действия («совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом» [Русская грамматика, 1980, с. 371]). Допустимо предположить: воздействие приставки с- в обеих названных функциях было настолько сильным вследствие ее участия в образовании многих глаголов, что указание на совместность действия, когда-то выраженную словом сподвигнуть , решительно ушло из поля зрения носителей языка и утратилось в речевом общении.
В этом случае глаголы подвигнуть / сподвигнуть фактически взаимоуподоби-лись в своих значениях, а, как давно установлено, наличие в языке абсолютных синонимов, или лексических дублетов, «оправдано только его развитием и представляет собой явление переходное, временное <…>» [Шанский, 1972, с. 56], постепенно (иногда и почти незаметно для наблюдателя) уходя в глубокий пассивный запас. Подобное происходит и в отношениях между словами, объединенными друг с другом иными парадигматическими отношениями. Например, хорошо известна многолетняя конкуренция между паронимичными глаголами надеть / одеть , которую, судя по речекоммуникативной практике, несомненно выигрывает второй из них, несмотря на столь же длительные и настойчивые лингводидактические усилия.
Однако (и это тоже хорошо известно из истории многих русских слов) нередки случаи извлечения из лексического запасника единиц, вновь востребованных обстоятельствами жизнедеятельности социума, что зачастую сопровождается переосмыслением лексемы при ее звукобуквенной стабильности – дружина и мн. др. Впрочем, большой вопрос: привносит ли использование глагола сподвигнуть в его сегодняшнем осмыслении хоть что-нибудь безусловно положительное для духовного обогащения аудитории, для повышения качества ее осведомленности об окружающем мире, для культурного роста адресатов? Скорее всего, нет. Это лишь элемент набора вербальных средств, которыми оперируют деятели СМИ (наверное, сегодня в своей совокупности обоснованно заслуживающие гордого обозначения медийщики , – ср. паяльщик , лудильщик , притворщик , обманщик и проч.), вероятно, каким-то образом иногда ощущая необходимость их обновления в целях повышения эффективности высказываний.
Ср.: «Средства массовой информации, адресуя свои сообщения <…> абстрактному, среднему адресату <…>, поступают правильно, если в достаточной мере варьируют свои сообщения или их фрагменты в разных словесных выражениях» [Комлев, 2003, с. 194].
Как и во многих подобных ситуациях, затруднительно утверждать определенно, кто первым сказал «Э!» (см. [Гоголь, 1966, с. 33]), то есть вновь ввел в активный оборот глагол сподвигнуть , и это не играет принципиально важной роли в сугубо лингвистическом аспекте. Гораздо более значимы иные сопутствующие обстоятельства, в том числе и социокультурного характера.
Довольно закономерно, что объектом творческих (или, скорее, креативных [Савченко, 2009, с. 358]) усилий штатных речедеятелей оказался именно глагол: «Глагол это цельная мысль <…>. Н о в о е – вот что важно в глаголе. Не багаж, а свежесть новости скрыта в глаголе, когда его произносят» [Колесов, 1988, с. 178], причем как «парадокс речевого усилия» выступает то, что «уточнение смысла слов и их обобщение идет через эмоцию, заложенную в каждом новом и непривычном сочетании с приставкой» [Колесов, 1988, с. 203]. С другой стороны, на примере истории реактуализированного в употреблении глагола сподвигнуть можно вновь убедиться, что в речи СМИ «не рождается ничего позитивно нового, потому что упор сделан на коммуникативный аспект речи» [Колесов, 2004, с. 169–170].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 4 (12)
Кроме того, осознанное появление каких-то действительно незаурядных (то есть положительных и с точки зрения эффективности воздействия на адресата, и с точки зрения совершенствования его внутреннего мира) новшеств на уровне применения лексико-фразеологических единиц весьма проблематично. Даже фрагментарные наблюдения за фактами и тенденциями речевой коммуникации, тиражируемыми в СМИ, неизменно подтверждают оценку, данную их производителям: «…Значительная часть создателей массово потребляемых текстов попросту малограмотные не отягощенные морально и этическими нормами недоучки» [Кравченко, 2008, с. 45] (см. также [Васильев, 2000, с. 6–16; 2003, с. 25–38; и др.).
В качестве некоего катализатора, поддерживающего в сознании языкового коллектива фоновые представления о возможности и даже уместности употребления глагола сподвигнуть , вероятно, фигурирует существительное сподвижник , историческая судьба которого характеризуется гораздо большей последовательностью (см. [Васильев, 1993, с. 52–56]). По максимально упрощенной но потому и несокрушимой! логике носителя «обыденного метаязыкового сознания» [Голев, 2008, с. 5], если существуют слова́ подвижник и подвигнуть , то якобы вследствие наличия сло́ва сподвижник обязательно должно быть и сподвигнуть (естественно, без каких-либо усилий его осмыслить).
Вывод. Глагол сподвигнуть с достаточными основаниями сегодня допустимо квалифицировать как «модное слово», или «слово-метеор», скоропостижное и широкое распространение которых обретает характер эпидемии [Комлев, 2003, с. 187]. Нельзя не признать точность этой метафоры, поскольку вредоносные последствия подобных процессов в речевой коммуникации значимы для общественного сознания, которое уже заметно трансформировано далеко не в лучшую сторону (см. [Васильев, 2014, с. 75–87, 137–219; 2019]).
Однако станет ли рассмотренный глагол «метеором», пробыв в обороте сравнительно краткое время, или же укрепится в практике речевого общения благодаря усилиям публичных коммуникантов, сказать, конечно, невозможно: как показывает некоторый опыт, прогнозирование языковых феноменов не входит в профессиональную компетенцию лингвистов, понимающих дискретность и непредсказуемость языка. Динамика глагола сподвигнуть достаточно наглядно иллюстрирует это положение, а с другой стороны, служит небезынтересным конкретным примером речевых феноменов.
Список литературы Модное слово: инновация или реактуализация?
- Васильев А.Д. Динамика слова в истории русского языка. Красноярск, 1993. 148 с.
- Васильев А.Д. Очерки политической лингвистики. М., 2018. 144 с.
- Васильев А.Д. Превращения слов. Современные лексико-семантические процессы. Красноярск, 2019. 316 с.
- Васильев А.Д. Слово в российском телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления. М., 2003. 224 с.
- Васильев А.Д. Слово в телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления в российском телевещании. Красноярск, 2000. 166 с.
- Васильев А.Д. Современное мифотворчество и российская телевизионная словесность. М., 2014. 240 с.
- Гоголь Н.В. Ревизор. М., 1966. С. 19-114.
- Голев Н.Д. Особенности современного обыденного метаязыкового сознания в зеркале обсуждения вопросов языкового строительства // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 3 (4). С. 5-17.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. Т. I-IV. М., 1955 [СлДаля].
- Ефремов И.А. Час Быка // Ефремов И.А. Собр. соч.: в 5 т. М., 1989. Т. 5, кн. 2. 462 с.
- Замкова В.В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в. М., 1975. 224 с.
- Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. Л., 1988. 271 с.
- Колесов В.В. Язык и ментальность. СПб., 2004. 240 с.
- Комлев Н.Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. 2-е изд. М., 2003. 216 с.
- Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 22-220.
- Русская грамматика. М., 1980. Т. 1: Фонетика. Словообразование. Морфология.
- Савченко Л.Р. Слова творческий и креативный как явления дискурсивной квазисинонимии // Пред'явлення св^ в гуманитарных дискурсах XXI с. Луганск, 2009. С. 351-361.
- Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Спб., 1806-1822. Ч. I-VI (САР2).
- Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1989. Вып. 15. 288 с. (СлРЯ XI-XVII вв.).
- Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 2006. Вып. 27. 276 с.
- Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1981-1984 (МАС2)
- Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1948-1965. Т. 1-17 (БАС1).
- Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Академии наук. Спб., 1867. Т. 1-4 (Сл1867).
- Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935-1940. Т. 1-4 (СУ).
- Честертон Г.К. Сломанная шпага // Честертон Г.К. Рассказы. М., 1980. С. 76-95.
- Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. Изд. 2-е. М., 1972. 327 с.
- Якубинский Л.П. История древнерусского языка. М., 1953. 368 с.