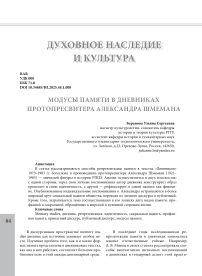Модусы памяти в дневниках протопресвитера Александра Шмемана
Автор: Баранова У.С.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются способы репрезентации памяти в текстах «Дневников» 1973–1983 гг. богослова и проповедника протопресвитера Александра Шмемана (1921– 1983) — значимой фигуры в истории РПЦЗ. Анализ осуществляется в двух плоскостях: с одной стороны, через свои личные воспоминания автор дневника конструирует образ прошлого и свою идентичность, с другой — рефлексирует о самой памяти как феномене. Опубликованные индивидуальные воспоминания о. Александра встраиваются в более широкий круг социальной памяти общества, переходя из личного дискурса в публичный. Кроме того, затрагивается тема сосуществования в его записях двух видов памяти: профанной и сакральной, обращённых к мирской и духовной сторонам жизни.
Memory studies, дневник, репрезентация, идентичность, сакральная память, профанная память, приватный дискурс, публичный дискурс, модусы памяти
Короткий адрес: https://sciup.org/170209177
IDR: 170209177 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.1.008
Текст научной статьи Модусы памяти в дневниках протопресвитера Александра Шмемана
В дискурсивном пространстве memory studies дневник как источник занимает особое место. Изучение проблем того, как и в каких формах память представлена в дневниковых текстах, как она в них работает, составляет большое проблемное поле в этой междисциплинарной среде.
В последние годы исследованиями репрезентации памяти в дневниках занимались многие отечественные учёные. Например, Д. В. Минец в своих статьях рассматривала способы запечатления интимных воспоминаний в дневниках и гендерный аспект этой практи- ки1. М. Ю. Михеев исследовал механизм преобразования мысли дневнициста и её путь от внутренней речи к рукописному или печатному тексту.2 А. А. Сямина и Г. А. Филиппов занимались темой соотношения индивидуальной памяти и конструирования автором дневника на её основе своей идентичности3. Р. С. Черепанова в своих работах обращала внимание на различие приватного и публичного уровней в дневниковой прозе, а также связанных с ними дискурсивных полей4.
Эта статья посвящена тому, в каких формах память представлена в «Дневниках»5 протопресвитера Александра Шмемана (1921–1983) — богослова, проповедника, декана и профессора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, значимой фигуры Русской православной церкви заграницей. Восемь тетрадей на русском языке, в которых он вёл записи в последнее десятилетие своей жизни, обнаружили в его кабинете сразу после смерти. К изданию они были подготовлены лишь в 2004 году коллективом Вестника русского христианского движения (в первую очередь, Н. Струве), при участии вдовы и сына о. Александра. По личным воспоминаниям в дневнике возможно реконструировать всю его жизнь: от детства в версальском кадетском корпусе и лицее в Париже, учёбы в Свято-Сергиевском богословском институте до переезда в Америку, церковной и преподавательской деятельности. Дневники отца Александра, как источник, предоставляют исследователю широкий пласт тем и смыслов. Они интересны с точки зрения литературного процесса и политической повестки, но прежде всего в парадигме рели- гиозного осмысления жизни. Это происходит, поскольку круг общения отца Александра был чрезвычайно обширен, в дневнике упоминаются многие значимые для истории русского зарубежья личности: учёные, богословы и священнослужители, писатели, друзья и наставники (например, такие как А. И. Солженицын) — представители всех трёх волн эмиграций.
Литературное наследие А. Шмемана, помимо дневников, представлено широким корпусом богословских, религиозно-философских и публицистических текстов. К их изучению в 2000-х годах исследователи обращались с позиций различных проблемных полей и через призму разных наук социогуманитарного спектра. Среди них важное место занимают работы Ю. В. Балакшиной6, которая рассматривала дневники А. Шмемана в контексте его мыслей об образе и смысле культуры, а также с точки зрения поэтики текстов. В статье Т. Л. Воронина исследуются взгляды о. Александра на искусство и поэзию и особенности употребления им поэтических цитат7.
Однако, несмотря на то, что творчество А. Шмемана уже стало предметом изучения, исследование, касающееся его понимания памяти, отсутствует. Цель данной статьи — заполнить эту лакуну и рассмотреть, каким образом сегменты памяти представлены в его дневниках. Первоначально можно выделить два главных модуса памяти (то есть способа существования или аспекта): воспроизведения в письменном виде личных воспоминаний и рефлексии о. Александра о памяти как феномене. В этой связи, я ставлю несколько исследовательских вопросов:
-
• как личные воспоминания автора интегрируются в широкий пласт социальной памяти;
-
• как с помощью личных воспоминаний происходит конструирование идентичности автора;
-
• где проходит различие между сакральной и профанной формами памяти.
Первоначально обратимся к вопросу, каково соотношение индивидуальной и социальной памяти в дневниках А. Шмемана. Сам автор так вы- сказывался об их назначении: «Touch base — вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание всё записать, а своего рода посещение самого себя, «визит», хотя бы и самый короткий»8. Судя по всему, изначально дневники не предназначались к публикации и не были задуманы как общественное достояние. Это видно из того, что после принятия решения о публикации, были изъяты некоторые повторы и подробности, касающиеся ещё живых людей.
Повествование о событиях или осмысление значимой проблемы осуществляется в рамках паттернов, присущих жанру дневниковой прозы. С одной стороны, материал предстаёт как модус достаточно интимной индивидуальной памяти9. Но с другой, непрерывно взаимодействуя с окружающими, будучи вписанным в исторические события вокруг, автор дневника встраивает свои воспоминания в более широкий круг «оперативной» или социальной памяти общества10. В этой связи проблема соотношения публичного и приватного дискурсов встаёт особенно остро, если поставить вопрос о посмертной публикации рукописей.
Воспоминания внутри дневника всегда многомерны. В первую очередь, это связано с их индивидуальной окраской, принципиальной перспективностью и лабильностью11. Во вторую же, с тем, что они встроены в широкий социальный контекст отношений и коммуникации — воспоминания автора дневника всегда расширяются, дополняются и переоткрываются людьми из его окружения12.
Воспоминания в дневнике также характеризуются особым способом репрезентации, связанной с построением идентичности личности внутри автобиографической прозы. Они не тождественны сконструированным «по случаю»
воспоминаниям автора мемуаров, выстроенным как довольно логичное повествование. При этом изначально дневниковое повествование можно считать «пред-текстом» — внутренней речью, в противовес взвешенной произнесённой речи других жанров прозы — в том числе и мемуа-ров13. В другой записи Шмеман снова подтверждает назначение дневника: «И вот, по-видимому, задача этой тетради, инстинктивная в ней нужда: сохранить в себе всё, не дать себе сузиться до чего-то одного: «декан Св. Владимирской Духовной Академии», «литургист» и т.д.»14. Следовательно, он воспринимает свои записи, как расширение своей личности, сохранение в ней этого расширения через «вбирание» воспоминаний, благодаря которому он, как человек, не будет сводиться лишь к социальным ролям.
Память, как проработка индивидуального опыта помогает человеку конструировать свою идентичность. Эта необходимость чёткой самоидентификации в смысле национальной принадлежности, стояла перед А. Шмеманом особенно остро, так как он был представителем белой, «церковной» эмиграции. В этой связи показательна запись, в которой автор вспоминает различные лики родины и других стран в своей судьбе: «Потом — сквозь эту военную Россию — постепенное прорастание «других» Россий: православно-церковно-бытовой, литературной, идейной, революционной и т.д. Россия — слава, Россия — трагедия, Россия — удача, Россия — неудача… Потом французский лицей, открытие Франции, Парижа, французской культуры». В той же записи о. Александр размышляет не только о личном восприятии, но и о своём видении того, как память о России конструирует идентичность знакомых ему эмигрантов: «Постепенное внутреннее открытие, что большинство русских живёт какой-нибудь одной из Россий, только её знает, любит и потому абсолютизирует. Отсутствие широты и щедрости как отличительное свойство эмиграции. Обида, драма, страх, ущербленная память. Вообще — «неинтегриро-ванность», фрагментарность русской памяти и потому России в русском сознании»15. А. Шме-ман ставит вопрос, что такое родина, конкретно Россия — реальная и утерянная, сохранившаяся лишь в воспоминаниях. Часто также и критикует других эмигрантов за их неспособность вместить в себя целое — по его мнению, они дробят представления о покинутой родине. Эти его взгляды указывают на понимание памяти как некоего ущербного механизма.
К каждой из умозрительных «Россий» Шме-ман относит определённый тип человека, который несколько идеализирует: «Я до сих пор убеждён, например, что тип русского офицера (первый тип, встреченный в жизни: Н.А. Римский-Корсаков, В.З. Маевский, А.В. Попов, даже папа) — очень высокий, нравственно и человечески, тип, им можно любоваться (Толстой любовался им), как можно любоваться и другими типами: русским священником, интеллигентом и т.д.»16. Таким образом, несмотря на попытку рефлексии «со стороны», к суждениям автора дневника неизбежно примешивается интимное отношение, связанное с ностальгией и долей романтизации прошлого.
Благодаря специфическому роду деятельности отца Александра, связанному с духовным саном и церковным служением, мы имеем дело с ещё двумя модусами памяти в его дневниках: сакральной и профанной. Второй вид встречается наиболее часто, когда речь, в принципе, заходит о припоминании событий и чувств, а также когда Шмеман раздумывает над самой природой памяти как феномена. Профанное, в контексте дневников А. Шмемана — мирское, внешнее, иногда бытовое.
В другом месте читаем: «Вчера праздновали — по новому стилю — святителя Николая. А по-старому — Александр Невский, мои именины. Вспомнил, как в этот день, должно быть в 1933 или 1934 году, я проснулся в дортуаре нашего «первого взвода» и нашёл на табуретке около кровати подарки… <…> Почему некоторые дни, со всеми их подробностями — погодой, количеством света и т.д., так врезаются в память, так остаются в ней?»17. В данном случае рефлек- сия касается избирательности индивидуальной памяти, её эпизодичности.
Эта же тема встречается и в ряде других случаев, например: «Я многое могу, сделав усилие памяти, вспомнить; могу восстановить последовательные периоды и т.д. Но интересно было бы знать, почему некоторые вещи я не вспоминаю, а помню, как если бы они сами жили во мне. При этом важно то, что обычно это как раз не «замечательные» события и даже вообще не события, а именно какие-то мгновения, впечатления. Они стали как бы самой тканью сознания, постоянной частью моего «я»18. Здесь автором высказывается мысль о некоторой автономности памяти, её существовании вне зависимости от воли индивида, его усилий и предпочтений — информация о том, что может быть оценено как малозначительное.
В одной из записей автором приводится стихотворение, которое подтверждает, что тема памяти как феномена является предметом интереса Шмемана: «Утром проснулся со звенящим в голове стихом (Одоевцевой?): Я помню, помню, я из тех, / В ком память змеем шевелится, / Кому простится смертный грех / И лишь забвенье не простится…»19. В действительности, автор приведённого стихотворения — Н.Н. Берберова. В осмыслении её четверостишия Шмеманом память представляется как некоторый вид добродетели, то, что должно существовать и отсутствие чего — непростительное преступление, буквально грех. Но пока ещё не в прямом, религиозном смысле, а лишь в переносном.
И далее: «Когда он перестанет устраивать этот молебен, что-то кончится. Что именно? Не Семёновский полк, конечно, которого нет уже пятьдесят лет. Некая платоновская идея. Память о памяти, воспоминание о воспоминании <…> Перечитал написанное и подумал: а Пруст-таки прав. Никогда, наверное, не был Семёновский полк так жив, как в эти парижские полковые праздники, когда память очищала его от всему мешающей и всё извращающей «реальности». В этом, конечно, сущность праздника. «Его же память ныне совершаем. В приведённой цитате Шмеман рассматривает память в несколько ином ракурсе: как инструмент очищения, создающий некоторую идеальную реальность, имеющую, возможно, мало общего с бывшим на самом деле, но дорогую сердцу человека. А также: «Вчера прилетел в Нью-Йорк в три часа дня. <…> Сейчас иду в семинарию — ещё один «антракт» кончился, ещё раз мой «Париж» претворяется в память»20. Автор ведёт речь о процессе перехода действительного и непосредственно проживаемого в раздел «бывшего» — в обитель памяти.
Что касается сакральной памяти, то она занимает в дневниках А. Шмемана практически центральное место. Это духовный аспект, внутреннее ощущение, связанное с переживанием божественного. Рассуждения о ней приводятся в различных контекстах, к ней неизменно обращены мысли автора. Проблема памяти занимала церковных писателей и богословов. Её могли рассматривать так: «Память есть удержание в себе отпечатлений ума, отложение памяти — забвение; а отложение забвения есть опять какая-то память, которую называю воспоминанием»21. Вообще же Отцы Церкви различали два действия памяти: памятование и воспоминание. Св. Иоанн Дамаскин так раскрывал суть памятования: «Способность же помнить служит и причиной, и хранилищем памяти и припоминания. Ибо память есть представление, оставленное как каким-либо чувством, так и каким-либо мышлением, обнаруживающимся через действие; или сохранение вещи, воспринятой и чувством, и мышлением»22. В целом, святые отцы придавали памяти инструментальный характер, рассматривали её как инструмент ума. Семантика памяти занимает значительное место в богослужениях: от свершения памяти святых до пения «вечной памяти» при поминовении усопших. К тому же «память смертная» как сосредоточенность ума на размышлении о конечности жизни, составляет важную часть понимания проблемы смертности в христианстве.
Непосредственно под сакральной памятью в богословии, как правило, подразумевается па- мять Божия — непрестанное молитвенное памятование при трудах и занятиях о Божественном присутствии: «Корень молитвы память Божия с тёплою верою и чувством к Богу»23. С этим можно соотнести запись А. Шмемана: «Что такое молитва? Это память о Боге, это ощущение Его присутствия. Это радость от этого присутствия. Всегда, всюду, во всём»24. То есть о. Александр мыслит молитву как память Божию, вполне в духе устоявшейся православной традиции.
Потом о. Александр пишет: «Анамнезис»: вс2 христианство — это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь. Поэтому все религии, всякая духовность, направленные на уничтожение времени, суть лжерелигии и лжедуховность»25. Автор уподобляет христианство, в целом, сакральной памяти и размышляет о важности времени, как составной части процессов воспоминания и забвения. Он не отрицает значимость темпоральности для христианина, но, напротив, отводит ей важную роль. Религия как «благодатная память», по мысли Шмемана, становится средством преодоления временной раздробленности и опытом проживания вечности. Далее он вторит своей мысли, но теперь упоминает о религии институционально: «Церковь — это память и поминовение, но в свете уже — воскресения»26. Здесь под воскресением снова подразумевается опыт вечности — то есть будущей, ожидаемой христианами, жизни.
Продолжая свою мысль об избирательности памяти и её способности против воли человека хранить незначительные, на первый взгляд, мгновения и моменты, Шмеман заключает: «Я убеждён, что это, на глубине, те откровения («эпифании»), те прикосновения, явления иного, которые затем и определяют изнутри «мироощущение». Потом узнаёшь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чём, радость оттуда, радость Божьего при- сутствия и прикосновения к душе»27. Он указывает на это свойство памяти как проявление божественного, элемент некоторой сакрализирующей работы духа, не зависящей исключительно от волеизъявления самого человека. Это понимание согласуется также с концепцией производства присутствия в том смысле, что воспоминания передают, в первую очередь, не значение, но переживания, которые являются предметом чувственного восприятия. В целом, о. Александр рассматривает молитву, Церковь и всё христианство как разновидности памяти о Боге, а саму возможность механизмов бессознательного запоминания особых деталей как некоего рода божественное присутствие. В таком случае, мы можем интерпретировать сакральную память в его текстах как разновидность эпифании28.
Таким образом, рассмотрев различные способы говорения и размышления о памяти в дневниках протопресвитера А. Шмемана, можно выделить два модуса взаимодействия автора с этой темой, и они принципиально различны. Первый — это непосредственная «работа памяти», то есть базовое конструирование личных воспоминаний, их проговаривание, воспроизведение событий прошлого, их переоткрытие, «проступание» индивидуальной памяти днев-нициста через его текст. Эти действия связаны с самопредсталением автора, его идентичностью и встроенностью в социум. Второй же модус представляет собой некую метапозицию. Он подразумевает дистанцирование о. Александра от воспоминания как нарратива и концентрируется на его деконструкции, рефлексии о работе памяти, её свойствах и путях формирования, а также различении в ней профанной и сакральной сфер.