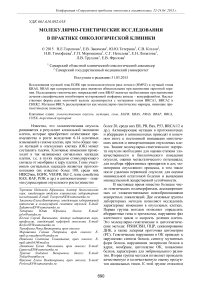Молекулярно-генетические исследования в практике онкологической клиники
Автор: Торопова Надежда Ефимовна, Закамова Елена Викторовна, Тетерина Юлия Юрьевна, Козлов Сергей Васильевич, Тимофеева Нона Викторовна, Морошкина Галина Петровна, Нетелева Светлана Геннадьевна, Липатова Елена Николаевна, Трухова Людмила Валерьевна, Фролова Елена Владимировна
Статья в выпуске: 2-3 т.17, 2015 года.
Бесплатный доступ
Исследования мутаций гена EGFR при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) и мутаций генов KRAS, NRAS при колоректальном раке являются обязательными при назначении таргетной терапии. Исследование генетических повреждений гена BRAF является необходимым при назначении лечения специфическим ингибитором мутированной изоформы киназы - вемурафенибом. Наследственная форма рака молочной железы ассоциируется с мутациями генов BRCA1, BRCA2 и CHEK2. Мутации BRCA рассматриваются как молекулярно-генетические маркеры, имеющие прогностическое значение.
Злокачественная опухоль, мутация, гены, таргетный препарат
Короткий адрес: https://sciup.org/148102339
IDR: 148102339 | УДК: 661.616.092.018
Текст научной статьи Молекулярно-генетические исследования в практике онкологической клиники
Известно, что злокачественная опухоль более 20, среди них ER, PR, Bax, P53, BRCA1/2 и
развивается в результате клональной экспансии клеток, которые приобретают селективное преимущество в росте вследствие 6-14 ключевых изменений в геноме клетки, при этом общее число мутаций в опухолевых клетках (ОК) может составлять тысячи. Ключевые изменения происходят в так называемых сигнальных каскадах клетки, т.е. в путях передачи стимулирующего сигнала от мембраны к ядру клетки. Гены участников сигнальных каскадов являются протоонкогенами (их известно более 100, среди них HER2/neu, EGFR, VEGFR, Bcl-2, гены семейства RAS, RAF, Pi3K и др.) и антионкогенами – генами супрессорами опухолевого роста (известно
др.). Активирующие мутации в протоонкогенах и аберрации в антионкогенах приводят в конечном итоге к постоянной инициации митотических циклов и иммортализации опухолевых клеток. Знание молекулярно-генетического портрета опухоли необходимо для оценки степени злокачественности и биологического поведения опухоли, оценки метастатического потенциала; для подбора эффективных препаратов и доз; мониторинга опухолевого процесса, в том числе после удаления первичной опухоли; для оценки минимальной остаточной болезни и выявления множественной лекарственной устойчивости.
В настоящее время известно большое число генетических полиморфизмов, ассоциированных со злокачественными новообразованиями конкретных локализаций. Две основные группы лабораторных методов позволяют исследовать характерные изменения в опухолевых клетках. Первая группа методов позволяет определять аберрантные гены и хромосомы, нарушение фаз клеточного цикла и скорость деления клеток. Это молекулярно-генетические и цитогенетические методы: FISH/CISH, ПЦР, секвенирование ДНК, а также лазерная проточная цитометрия (FC). Генетические нарушения в ОК приводят к нарушению синтеза белков, синтезу мутантных форм белков, нарушениям экспрессии белков в ядрах, мембране, цитоплазме ОК, появлению белков, характерных для эмбрионального развития. Вторая группа методов позволяет проводить качественную и количественную оценку продуктов аномальных генов. К этой группе относятся иммунохимические методы: ИФА, РИФ, ИХЛ, ИЦХ/ИГХ, FC и др.
EGFR – трансмембранный гликопротеин молекулярной массой 170 kD, обладающий тирозинкиназной активностью. EGFR (или HER1) относится к семейству рецепторов эпидермального фактора роста, которое также представлено другими его видами: erbB2/HER2-neu; erbB3/HER3 и erbB4/HER4. EGFR экспрессируется на поверхности как нормальных, так и трансформированных эпителиальных клеток и участвует в регуляции клеточного деления и дифференцировки. Рецептор EGF (EGFR) является продуктом одного из онкогенов семейства erb – c-erbB1, часто называемом по аналогии с названием кодируемого белка – геном EGFR. EGFR-ген локализован на коротком плече хромосомы 7 (7p12).
В большинстве случаев рака легкого наблюдается повышенная экспрессия рецептора эпидермального фактора роста (epidermal growth factor receptor – EGFR), обладающего тирозинкиназной активностью. Активация EGFR при раке легкого происходит вследствие изменений в участке ДНК, кодирующем тирозинкиназный домен рецептора. Наиболее распространенными мутациями в гене EGFR, составляющими 5156% тестируемых нарушений, являются делеции в 19-м экзоне. Кроме того, часто наблюдаются точечные мутации: с.2573Т>G (Leu858Arg) в 21м экзоне (36-44%) и c.2155G>A,T,C (Gly719S,C,A) в 18-м экзоне (5-6%) [3-5]. В подтверждение вышеизложенного, у 90,7% обследованных пациентов Московского региона спектр мутаций представлен двумя основными типами: делециями в 19-м экзоне (51,2%) и точечной заменой в 21-м экзоне типа L858R (39,5%) [6]. Мутации, наличие которых ассоциировано с эффективностью анти-EGFR-терапии, также различаются по своей клинической значимости. Например, у пациентов с делециями в 19-м экзоне гена EGFR общая выживаемость выше, чем с мутацией Leu858Arg [7-9].
Генетические изменения в метастатических очагах опухоли не всегда аналогичны изменениям в первичном очаге, то есть отсутствие мутаций в клетках первичной опухоли не гарантирует, что их также не будет и в клетках метастазов. Проведенное лечение может менять генотип опухолевых клеток [10, 11]. Европейским Обществом Медицинских Онкологов (ESMO) рекомендовано выявление соматических мутаций в гене EGFR для определения целесообразности применения ингибиторов тирозинкиназ (TK) и EGFR. В настоящее время определение мутаций гена EGFR у больных НМРЛ является обязательной диагностической процедурой, клинически и экономически обоснованной. Проведение данного исследования позволяет выделить группу пациентов, для которых наиболее вероятен выраженный клинический ответ на терапию ингибиторами тирозинкиназы (гефитиниб и эрлотиниб). Гефитиниб (Иресса) включен в перечень дополнительного лекарственного обеспечения, рекомендован как препарат для лечения НКРЛ первой линии. Среди факторов, определяющих высокую частоту мутации EGFR у больных НМРЛ, основными являются: неплоскоклеточный рак, аденокарцинома, некурящие пациенты [12]. 55-90% больных НМРЛ с мутацией EGFR отвечают на терапию ингибиторами тирозинкиназы (гефитинибом) и получают больше преимуществ от терапии гефитинибом, чем от химиотерапии [3, 13, 14].
Одним из хорошо изученных сигнальных путей EGFR является нисходящий многокомпонентный каскад RAS/MAPK (Ras-Raf-MAP киназный путь), который тесно связан с развитием процессов опухолеобразования. Сигналы, передаваемые при активации рецептора EGFR по сигнальному пути RAS/MAPK, определяют пролиферативную активность ОК, способность к дифференцировке, метастазирование, уход от апоптоза, индукцию ангиогенеза и т. д. В Ras-зависимом сигнальном пути ключевую роль играют белки семейства Ras. Ген KRAS является одним из первых идентифицированных онкогенов, чья причастность к опухолевому росту была продемонстрирована ещё в начале 1980-х гг. Название KRAS (Ki_ras, Ki_ras_2) происходит от онкогена, входящего в состав вируса крысиной саркомы Кирстен (Kirsten Rat Sarcoma), который гомологичен человеческому KRAS [15]. В состав семейства белков Ras входят H-Ras, K-Ras, N-Ras, R-Ras и другие гомологичные белки. Каскадная последовательность реакций сигнального пути Ras действует как включатель, определяющий регуляцию генной экспрессии, требующуюся для решения клетки делиться или дифференцироваться. Постоянная активация Ras ведет к злокачественному перерождению клеток. Характерный механизм перерождения – точечные активирующие мутации. Наиболее известными онкогенными мутациями являются мутации в генах KRAS и NRAS в 12, 13 кодонах (2 экзон), 59, 61 кодонах (3 экзон), 117, 146 кодонах (4 экзон). Мутации KRAS, NRAS приводят к постоянной активации белка и передаче митотического сигнала независимо от стимуляции и медикаментозного ингибирования EGFR, поэтому у больных с мутированным геном KRAS терапия ингибиторами EGFR и тирозинкиназ неэффективна. Мутации KRAS обнаружены у 30-40% больных метастатическим КРР, 15-30% больных НМРЛ, 59-90% больных раком поджелудочной железы, 18% больных РЯ, 15% больных раком щитовидной железы, 7,1% больных с ОМЛ [15, 18]. Мутации в гене NRAS при КРР составляют до 5% и 12,9% при ОМЛ [15, 18]. Мутации в гене HRAS и RRAS при аденокарциноме толстой кишки не описаны.
У 40-50% пациентов с впервые диагностированными опухолями толстой кишки развиваются отдаленные метастазы. В настоящее время для лечения метастатического КРР применяют таргетные препараты на основе моноклональных антител – ингибиторы EGFR цетуксимаб (cetuximab) и панитумумаб (panitumumab). Связывание антител с EGFR приводит к угнетению инвазии опухолевых клеток в нормальные ткани, препятствуя распространению опухоли в другие органы. У пациентов с диким типом гена KRAS анти-EGFR препараты достоверно увеличивают медиану выживаемости. Мутации гена KRAS определяют агрессивное поведение опухоли: КРР развивается в кратчайшие сроки, быстро метастазирует и плохо поддается химиотерапии. Поэтому было рекомендовано определять мутации в гене KRAS у всех больных метастатическим КРР для решения вопроса об анти-EGFR терапии. Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15 мая 2014 г. № 01И-692/14 «О новых данных по безопасности лекарственного препарата Эрбитукс» к спектру мутаций, обязательных для исследования перед назначением препарата Эрбитукс добавлены мутации в гене NRAS.
Ген BRAF является членом семейства киназ RAF, которое представлено несколькими генами – ARAF, BRAF и CRAF. Мутационная активация описана к настоящему моменту только для одного гена BRAF. Изменения последовательности BRAF, как правило, затрагивают 600й кодон и встречаются примерно в 5% опухолей толстой кишки [15; 19]. BRAF представляет собой RAS-регулируемую серин/треонин киназу, участвующую в передаче пролиферативного сигнала с мембранных тирозинкиназных рецепторов к ядру, и которая наряду с KRAS является еще одним участником сигнального пути Ras-Raf-MAPK, контролирующего клеточную пролиферацию, дифференцировку и апоптоз [19]. В то время как нормальный BRAF активируется только при поступлении сигнала от белка семейства RAS, мутации BRAF приводят к его автономной активации. В результате BRAF безостановочно передаёт стимулы к киназам MEK и MAPK, которые играют ключевую роль в запуске процессов клеточного деления [15].
Мутации в гене BRAF обнаруживаются в различных злокачественных опухолях человека, таких как метастатический КРР, немелкоклеточный рак легких, меланома и папиллярный рак щитовидной железы. Мутационный статус генов BRAF и KRAS находится в реципрокных взаимоотношениях: если при КРР обнаруживается активация KRAS, присутствие нарушений в кодоне 600 гена BRAF практически исключено; напротив, если в опухоли наблюдается мутация KRAS, то статус BRAF почти всегда остаётся нормальным [15]. Данные, представленные в 2012 г. на 20-м Симпозиуме по направленной и антиопухолевой терапии (20-th Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapies) демонстрируют, что мутации в гене KRAS играют ведущую роль в активации сигнального пути, который приводит к прогрессии опухоли и обнаруживается у 30-40% пациентов с неэффективным ответом на терапию препаратами Erbitux (Cetuximab) и Vectibix (Panitumumab). Однако мутации в гене BRAF ответственны за дополнительные 12-15% пациентов, которые не отвечают на анти-EGFR терапию. Таким образом, тестирование гена BRAF дополняет анализ на KRAS мутации, и имеет ключевое значение для принятия решения о типе противоопухолевой терапии.
Проблему клинической значимости статуса BRAF следует рассматривать значительно шире, чем просто в контексте целесообразности применения терапевтических антител. В частности, больные КРР с мутацией BRAF делятся на 2 категории, абсолютно противоположные по своим клиническим характеристикам. Первую группу составляют крайне пожилые пациенты (75 лет и старше), опухоль которых содержит признаки гиперметилирования ДНК и характеризуется т.н. микросателлитной нестабильностью (MSI, microsatellite instability). Около половины старческих MSI-позитивных РТК содержат мутацию BRAF, однако злокачественные опухоли толстой кишки с микросателлитной нестабильностью характеризуются благоприятным течением и метастазируют крайне редко. Другая категория пациентов с КРР с мутацией BRAF представлена больными с очень плохим прогнозом. Такие карциномы резистентны не только к антагонистам EGFR, но и к любой терапии [15, 16].
Мутации BRAF являются также биологическим маркером предоперационной диагностики рака щитовидной железы. Пальпаторно определяемые тиреоидные узлы встречаются у 5-7% взрослого населения. При этом представляется важным исключить случаи малигнизации увеличенных тиреоидных узлов, которые составляют 5-15% всех увеличенных узлов. Тонкоигольная аспирация в настоящий момент является стандартной диагностической процедурой, позволяющей цитологически охарактеризовать тиреоидные узлы для определения, является ли узел доброкачественным или злокачественным. Однако в 10-40% случаев цитологическая диагностика не дает однозначного ответа по причине перекрывающихся цитологических характеристик доброкачественных и злокачественных тиреоидных узлов. Наличие мутации в гене BRAF
(в кодоне 600) в клетках аспирата щитовидной железы свидетельствует об агрессивном характере опухоли, что определяет дальнейшую тактику оперативного вмешательства.
Мутации в гене BRAF наблюдаются преимущественно в новообразованиях, возникающих на необлученных участках кожи. Напротив, мутации BRAF почти никогда не встречаются в меланомах внутренних слизистых покровов, а также в опухолях сетчатки [19, 20]. BRAF-мутированные меланомы чаще возникают у относительно молодых пациентов, отличаются частым метастазированием в лимфатические узлы и более агрессивным характером течения заболевания [19, 21]. Генетические повреждения BRAF стали вызывать интерес в связи с появлением препарата вемурафениба (зелборафа) – специфического ингибитора мутированной изоформы киназы, кодируемой упомянутым геном. Терапевтическое использование данного ингибитора приводит к уменьшению размеров мела-номных очагов у большинства пациентов, опухоль которых содержит мутацию, и сопровождается заметным увеличением времени до прогрессирования заболевания и общей выживаемости. Однако эффект селективных ингибиторов мутированной киназы BRAF ограничивается только пациентами с мутацией этого гена. Предполагается, что ошибочное назначение ингибиторов мутантного BRAF пациентам с нормальным внутриопухолевым статусом данного гена может сопровождаться ускорением роста меланомы. Однако предполагается, что некоторые меланомы являются смесью BRAF-интактных и BRAF-мутированных опухолевых клонов. Современные стандарты генетического анализа меланом подразумевают исследование всего одного биологического образца вне зависимости от давности и анатомического места взятия опухолевого материала. Сведения о молекулярной гетерогенности меланом указывают на возможную целесообразность повторных и множественных биопсий, представленных как первичной опухолью, так и метастатическими очагами. Еще более сложной является проблема выбора терапевтического решения в случае дискордантности статуса BRAF [19].
С интервалом в один год были идентифицированы и клонированы гены, обусловливающие развитие наследственного (семейного) РМЖ – BRCA1 (хромосома 17q21) и BRCA2 (хромосома 13q12) (Breast Cancer Associated genes) [22, 23]. Было установлено, что мутации в этих генах, происходящие в герминальных (половых) клетках, детерминируют наследственную предрасположенность к развитию РМЖ и яичников. Гены BRCA являются классическими опухолевыми супрессорами, участвуют в репарации разрывов ДНК и подавляют пролиферацию эстроген-зависимых клеток. В клетках с дефектными генами BRCA возникает генетическая нестабильность, анеуплоидии, хромосомные транслокации, предопределяющие развитие новообразований, отменяется подавление пролиферации эстроген-зависимых клеток, вследствие чего риск развития злокачественных опухолей, в частности, РМЖ у носителей мутантного гена BRCA многократно увеличивается.
Группой американских исследователей была обнаружена новая, чрезвычайно важная, функция белка BRCA1. Белок BRCA1 способен защищать клетки от оксидативного стресса посредством множественной активации экспрессии генов, ответственных за цитопротекторный антиоксидантный ответ [22, 23]. В их числе – гены, кодирующие ферменты глутатион-S-транс-феразу и оксид-редуктазу, а также другие антиоксидантные гены. Таким образом, было установлено, что в условиях in vitro гиперэкспрессия гена/белка BRCA1 приводит к повышению устойчивости клеток к действию агентов-окислителей, а его дефицит, наоборот, усиливает чувствительность к воздействию оксидативных факторов. Более того, оказалось, что при оксида-тивном стрессе (вызванном, в частности, перекисью водорода) ген/белок BRCA1 значимо влияет на окислительно-восстановительный внутриклеточный статус, повышая соотношение восстановленной и окисленной форм глутатиона. Был установлен факт BRCA1-опосредованной специфичной активации ядерного фактора Nrf2, контролирующего транскрипцию генов антиоксидантного ответа [22, 23]. В гене BRCA1 выявлено до 700 различных мутаций, характерных для жительниц определенных географических регионов [22]. Большинство мутаций BRCA1, обнаруженных в Российском регионе, являются мутациями со сдвигом рамки считывания в результате делеции или вставки 1, 2 или 5 нуклеотидов. Вследствие образования преждевременного стоп-кодона синтезируется укороченный нефункциональный белок, теряющий свои свойства в отношении супрессии опухоли [25]. При этом если одни и те же мутации в гене BRCA2 у российских пациенток встречаются очень редко, то в гене BRCA1 преобладает особая мутация, которая характерна для европейской части России и встречается также в странах Европы. В России частота мутаций в гене BRCA1 у пациенток с семейным РМЖ примерно на порядок выше, чем в гене BRCA2. Мутации в гене BRCA1 встречаются приблизительно у 60% российских пациенток с семейными случаями РМЖ и яичников [22]. На значительной выборке наследственного РМЖ и яичников в России показано, что частота мутации 5382insC в гене BRCA1 является наибольшей по сравнению с выборками из других популяций. На основании данных о высокой частоте (68%) мутации 5382insC в 20 экзоне гена BRCA1 в российской популяции, анализа частот её встречаемости в европейских и азиатских странах и результатов гаплотипирова-ния гена BRCA1 по микросателлитным маркёрам обосновано вероятное происхождение мутации на территории России, связанное с эффектом основателя [25].
Кроме генов BRCA имеются и другие гены, мутации или определенные аллельные варианты которых могут способствовать развитию опухолей молочной железы и некоторых других локализаций. Однако этот вклад не столь значителен, как в случае генов BRCA1/BRCA2 [22, 24]. Например, за наследственную форму РМЖ отвечает мутированный ген CHEK2. Данный ген находится в 22 хромосоме и принимает участие в поддержании стабильности генома, также как гены BRCA. Ген CHEK2 кодирует фермент чек-поинт киназу 2, активирующуюся в ответ на повреждение молекулы ДНК. Данный опухолевый супрессор контролирует вход клетки в митоз, приводя к аресту клеточного цикла на стадии G1 или апопотозу, а также репарацию ДНК. Впервые выявленные мутации CHEK2 были связаны с синдромом Li-Fraumeni характеризующимся чрезвычайно инвазивным фенотипом семейного рака, обычно связанным с наследственными мутациями в гене р53. Кроме того, мутации в этом гене определяет предрасположенность к саркомам, РМЖ и опухолям головного мозга. Наследственная мутация 1100delC CHEK2 приводит к синтезу неполноценного укороченного белка CHEK2. Она же ассоциирована с 1.4–4.7 кратным увеличением риска возникновения рака молочной железы у женщин, несущих эту мутацию. Частота ее составляет 1,1-1,4% среди групп здорового контроля в европейской популяции. Наследственная мутация 1100delC CHEK2 вместе с BRCA1 5382insC вносит значительный вклад в развитие рака молочной железы в России. При наличии мутации 1100delC CHEK2 в отсутствие мутаций BRCA1,2 риск развития рака увеличивается в 2 раза [26]. В России мутации CHEK2 выявляются не менее, чем у 2% больных РМЖ, а при отборе пациенток по клиническим признакам семейного рака данный показатель возрастает до 5%. В отличие от BRCA1 и BRCA2, гетерозиготная инактивация CHEK2 не сопровождается повышением риска рака яичников [26].
Выводы: с накоплением экспериментального и клинического опыта в области молекулярной онкологии, пониманием генетических механизмов опухолевого роста, введением в клиническую практику новых таргетных препаратов все большую важность приобретает необходимость изучения молекулярно-генетического портрета опухоли, позволяющего реализовать персонифицированный подход к лечению.
Список литературы Молекулярно-генетические исследования в практике онкологической клиники
- Никоненко, Т.А. Методы молекулярно-генетической диагностики сегодня//Лабораторная медицина. 2008. №9. С. 27-30.
- Хансон, К.П. Перспективы молекулярной диагностики в онкологии.//Материалы III Российской онкологической конференции. -СПб.,1999. С. 7-8.
- Горбунова, В.А. Мутации рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) как показатель эффективности ингибиторов тирозинкиназ у больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)/В.А. Горбунова, Н.Н. Мазуренко, И.М. Гагарин и др.//Эффективная фармакотерапия. Онкология, Гематология и Радиология. 2012. №4. С. 36-42.
- Zhang, Y. Frequency of driver mutations in lung adenocarcinoma from female never-smokers varies with histological subtypes and age at diagnosis/Y. Zhang, Y. Sun, Y. Pan et al.//Clin. Cancer Res. 2012. Vol. 18. № 7.
- Коломейцева, А.А. Эффективность ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) у больных распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)/А.А. Коломейцева., И.М. Гагарин, В.В. Мочальникова и др.//Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2011. Т. 22. № 1. С. 42-48.
- Демидова, И.А. Исследование молекулярно-генетических нарушений у больных аденокарциномой легких/И.А. Демидова, А.А. Баринов, Н.А. Савелов и др.//Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2012. №2. С. 28-34.
- Мазуренко, Н.Н. Определение мутаций в гене EGFR при немелкоклеточном раке легкого с помощью биологических микрочипов/Н.Н. Мазуренко, М.А. Емельянова, И.М. Гагарин и др.//Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. 2012. №3. Том 23. С. 15-23.
- Riely, G.J. Clinical course of patients with non-small cell lung cancer and epidermal growth factor receptor exon 19 and exon 21 mutations treated with gefitinib or erlotinib/G.J. Riely, W. Pao, D. Pham et al.//Clin. Cancer Res. 2006. Vol. 12. P. 839-844.
- Jackman, D.M. Exon 19 deletion mutations of epidermal growth factor receptor are associated with prolonged survival in non-small cell lung cancer patients treated with gefitinib or erlotinib/D.M. Jackman, B.Y. Yeap, L,V, Sequist et al.//Clin. Cancer Res. 2006. Vol. 12. P. 3908-3914.
- Рагулин, Ю.А. Таргетные препараты и лучевая терапия в лечении местнораспространенного рака легкого//Современная онкология. 2012. №2. С. 156-160.
- Тюляндин, С.А. Перспективные подходы лекарственной терапии немелкоклеточного рака легкого//Онкология. 2003. №5. С. 27-31.
- Имянитов, Е.Н. Молекулярная диагностика для увеличения эффективности лечения рака легкого//Газета общества онкологов-химиотерапевтов. 2012. №5. C. 2.
- Гервас, П.А. Мутации гена рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) у больных немелкоклеточным раком легкого населения Западной Сибири/П.А. Гервас, А.А. Иванова, И.М. Давыдов и др.//Сибирской онкологический журнал. Прил. №1. Материалы конференции. 2013. С. 26-27.
- Моисеенко, В.М. Эффективность гефитиниба в первой линии терапии неоперабельных аденокарцином легкого, содержащих мутацию в гене EGFR: исследование II фазы/В.М. Моисеенко, С.А. Проценко, И.И. Семенов и др.//Газета общества онкологов-химиотерапевтов. 2012. №5. C. 4.
- Имянитов, Е.Н. Стандартные и потенциальные маркеры при опухолях желудочно-кишечного тракта//Практическая онкология. 2012. Т. 13, №4. С. 219-228.
- Van Cutsem, E. Cetuximab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin as first_line treatment for metastatic colorectal cancer: updated analysis of overall survival according to tumor KRAS and BRAF mutation status/E. van Cutsem, C.H. Köhne, I. Láng et al.//J. Clin. Oncol. 2011. Vol. 29. P. 2011-2019.
- Волков, Н.М. Поиск путей повышения эффективности лечения рака желудка за счёт индивидуализации лечения на основе молекулярных маркеров//Дисс. … канд. мед. наук. -СПб, 2010. 100 с.
- Виноградов, А.В. Детекция точечных мутаций генов KRAS И NRAS при острых миелоидных лейкозах с использованием технологии прямого автоматического секвенирования/А.В. Виноградов, А.В. Резайкин, А.Г. Сергеев//Вестник Башкирского университета. 2014. Т. 19, №3. С.845-847.
- Имянитов, Е.Н. Выявление мутаций в гене BRAF для выбора терапии меланомы//Архив патологии, 2012. №5. С. 65-71.
- Weber, A. Absence of mutations of the BRAF gene and constitutive activation of extracellular-regulated kinase in malignant melanomas of the uvea/A. Weber, U.R. Hengge, D. Urbanik//Lab. Inves.t 2003. V. 83. Р.1771-1776.
- Long, G.V. Prognostic and clinicopathologic associations of oncogenic BRAF in metastatic melanoma/G.V. Long, A.M. Menzies, A.M. Nagrial et al.//J. Clin. Oncol. 2011. V.29. Р. 1239-1246.
- Киселев, В.И. Наследственный рак и современные возможности лекарственной коррекции генетических дефектов/В.И. Киселев, Е.Л. Муйжнек. -М., 2011. С. 1-16.
- Bae, I. BRCA1 induces antioxidant gene expression and resistance to oxidative stress/I. Bae, S. Fan, Q. Meng//Cancer Res. 2004. V. 64. С.7893-7909.
- Clayton, H. Growth and differentiation of progenitor/stem cells derived from the human mammary gland/H. Clayton, I. Titley, M. Vivanco//Exp. Cell Res. 2004. V. 297. P. 444-460.
- Поспехова, Н.И. Комплексный анализ наследственной формы рака молочной железы и/или яичников: молекулярно-генетические и фенотипические характеристики//Дисс. на соиск. … докт. биол. н. -М., 2011. 260 с.
- Соколенко, А.П. Наследственные мутации при ранних, семейных и билатеральных формах рака молочной железы у пациенток из России/А.П. Соколенко, М.Е. Розанов, Н.В. Митюшкина и др.//Сибирский онкологический журнал. 2008. №3 (27). С. 43-49.