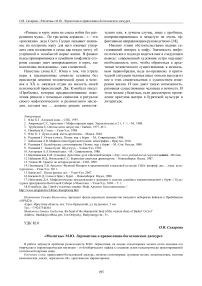"Молитвы" М.Ю. Лермонтова в православно-богословском дискурсе
Автор: Сахарова Оксана Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В работе затронута проблема религиозности М.Ю. Лермонтова, на основе стихотворных молитв поэта показана его творческая и мировоззренческая эволюция - от богоборческого пафоса к созданию основ теоцентрически ориентированной поэтической картины мира.
Православно-богословский дискурс, молитва стихотворная, духовная поэзия, молитвословие, молитва каноническая, диалог, лирическое "я", христианское мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/148179876
IDR: 148179876 | УДК: 82.0
Текст научной статьи "Молитвы" М.Ю. Лермонтова в православно-богословском дискурсе
М.Ю. Лермонтов – сложное и неисчерпаемое явление в духовной истории России. Художник христианского мировоззрения, Лермонтов создал удивительную «молитвенную» лирику. Справедливо замечено, что «молитвенное слово очень многозначно в лермонтовской поэзии» [1, с. 32]. Мистическая молитвенная красота поэтических шедевров классика долгое время хранилась под спудом: идеологизированное советское лермонтоведение старательно игнорировало поэтические «молитвословия» художника, создавая образ поэта – богоотступника, певца «Демона». Вместе с тем еще Н.О. Лосский писал: «Лермонтов обладал высокой способностью религиозного опыта. Он воспринимал природу так, как видят ее странники с чистым сердцем, созерцающие в ней славу Божию. Чтобы согласиться с этим, нужно прочитать стихотворение “Когда волнуется желтеющая нива…” …На такой же основе возникла и молитва “В минуту жизни трудную…” …Глубокая религиозность Лермонтова выразилась в молитве его “Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…” к “теплой заступнице мира холодного”» [2, с. 74].
Двойственность, противоречивость, «сознательное закрывание самого себя» (прот. В. Зень-ковский), некий трагический отпечаток и даже «таинственная способность предугадывать свою собственную судьбу» (Г.А. Мейер) были отмечены современниками поэта как свойственные ему на протяжении всей его недолгой, но весьма плодотворной творческой жизни. Как верно замечает Л.С. Айзерман, русская классическая литература всегда была литературой «высоких требований к человеку, обостренной совестливости, нравственной неуспокоенности, постоянных исканий смысла жизни», эти качества во многом и определили духовно-бытийный вектор развития русской классики [3, с. 5]. В настоящее время тема «Русская литература и православие» стала одной из общепризнанных, однако исследователями «не всегда учитывается то обстоятельство, что связь писателя с религиозными святынями своего народа не только в том, что он изображает в произведении, но и в том, как он видит мир. Иначе говоря, эта связь не может не просматриваться в особенностях поэтики русской классической литературы, национальный облик которой в значительной мере сформировался под мощным тысячелетним воздействием православно-христианских ценностей» [4, с. 166].
Современным лермонтоведением уже начиная с 1990-х гг. был поставлен под сомнение вопрос об атеистических взглядах Лермонтова. Мы согласны с мнением авторитетного исследователя, который утверждает: «Пришла пора взглянуть на Лермонтова не с позиций его “богоборчества” и “демонизма”, а, напротив, с точки зрения его самобытной религиозности, лежащей в основе всех переживаний поэта: сугубо интимных и светских, общественных и космических, временных и вечных» [5, с. 3]. Для атеиста нет Бога, страха Божия, и если он и говорит о Боге, то, конечно, в негативном ключе. У Лермонтова можно найти много восторженных, непритворных восхвалений Бога и созданного Им мира. Назвать Лермонтова атеистом или богоотступником было бы явным заблуждением, хотя поэт и не избежал богоборческих настроений. Лермонтов не только молился за себя, обращаясь к Божией Матери, Святым, Ангелам, но и как истинный христианин возносил молитву за дорогих его сердцу людей («Молитва» 1837 г.). По верному наблюдению В.В. Кожинова, «истинная поэзия должна обнимать всю полноту бытия, и потому в ней естественны богоборческие мотивы, которые так сильно звучат, например у Лермонтова. Но ведь он почти одновременно с такого рода стихами писал и подлинно православные произведения…» [6, с. 293].
Молитва как поэтический жанр в литературоведении не имела теоретической основы, и лишь во многом благодаря работам Э.М. Афанасьевой [7] и Б.П. Иванюка [8] она получила терминологическое обоснование. Справедливо мнение исследователей о том, что стихотворная молитва – автономный жанр, генетически связанный с молитвой канонической, существует свободно, самостоятельно, в рамках как русской, так и мировой духовной поэзии. Слово «молитва» имеет общеславянский корень и образовано от глагола «молить» с помощью суффикса -тв(а), который имеется также в словах битва, паства, жатва, клятва, ловитва (устар. – ловля рыбы). Трудно не согласиться с выводом филолога: «Человеку дана от Бога великая молитвенная свобода, свобода превращать каждый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву» [9, с. 26]. По этому поводу важным представляется замечание и другого исследователя: «…под молитвой в широком смысле этого слова вера понимает своеобразное “послание” человека Богу, его осознание благоговейного стояния перед Ним с самым широким спектром “благоговейности” и понимание Его высшей мудрости и милости. Именно это общее диктует вариативность эмоциональносемантической, душевно-умственной, духовночувственной составляющей молитвы…» [10, с. 80-81]. Произведениям такого типа свойственна «тематическая ситуация» испрашивания милостей от Бога, благодарения, славословия, включающая в себя языковые метафоры Библии и традиционных текстов молитв. Так происходит скрещивание и сакрального, и художественного смыслов. Однако, «молитва стихотворная является авторской не только по именному признаку, но и по содержанию» [11, с. 88]. В.А. Котельников пишет, что «в основе молитвенной лирики лежит не стилизация молитвословия, а акт религиозно-языкового творчества, включающий в себя момент реального богообщения и богопознания…» [11, с. 23]. В молитвенной лирике, действительно, «бесконечно разнообразен фон душевных состояний и жизненных положений личности». В отличие от канонической молитвы у авторской молитвы, считает В.А. Котельников, не только «интонации индивидуальны», но и различны степени «духовномистического напряжения». По мнению ученого, главным и общим свойством «молитвенного делания и молитвенной лирики» является «реальность предстояния пред Богом» [11, с. 23]. Думается, что по жанровым признакам молитву поэта можно сравнить со стихотворением-посланием, так как оно имеет определенного адресата, в уста которого автор вкладывает диалогические, эмоционально окрашенные суждения. «Послание – древнейший жанр монологической поэзии, большое стихотворение, в котором поэт, как бы беседуя с адресатом, высказывает свои суждения по какому-либо важному вопросу» [12, с. 219-220].
Молитва, таким образом, содержит отчетливый отпечаток авторской позиции. Следует указать на «трагическую тональность» творческих и витальных ориентиров Лермонтова – непременный атрибут авторских излияний [13, с. 71]. Поскольку произвести целостный анализ стихотворений – молитв Лермонтова в рамках данной статьи не представляется возможным, остановимся только на отдельных художественных особенностях молитвенной лирики поэта. При этом вполне обоснованным при анализе поэтических текстов будет обращение к каноническим текстам молитв и религиозной литературе.
Как было замечено, молитва является одним из распространенных жанровых образований в лирике Лермонтова. Будучи православно ориентированным художником слова, он чутко и проникновенно улавливал настроение канонической молитвы и выражал его в своих произведениях. С.А. Андреевский несомненно прав в своем утверждении: «…никто так прямо не говорит с небесным сводом, как Лермонтов, никто с таким величием не созерцал эту голубую бездну» [14, с.11-12]. Стихотворные молитвы Лермонтова – это постоянный, непрерывающийся «диалог» с Богом, неоднократные попытки осмыслить себя в мире и восстановить покой в «мятежной» душе. Поэт просит Творца о снисхождении к себе и суетному миру («Молитва», 1829). На пути духовного очищения разум выставляет преграды в виде логичных рассуждений, вовлекает душу в игру страстей, грехов и «бродит далеко» от Бога. По мнению Святых Отцов, истинную любовь к Господу можно познать лишь тогда, когда и ум, и душа будут едины в своих теоцентрических устремлениях. «Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере, а, главное, отгоняет Благодать Божию, и это в христианстве самое большое зло», – писал святитель Феофан Затворник [15, с. 39].
У Лермонтова настораживает нежелание лирического «я» со смирением принять Божественный суд, что подчеркнуто личным местоимением, предстоящим обращению:
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю… [16, с. 83].
В.А. Котельников, анализируя «Молитву» (1829), замечает: «ощущение и осознание пятнадцатилетним (!) автором своего дара слишком откровенны и горячи» [17, с. 6]. Вместе с тем «исконная» религиозность поэта не снижается от смены настроения богоустремленности на откровенно эгоистические «упреки» Создателю мира. Для него «в любви сливается земное и небесное, чувственное одухотворено, духовное находит воплощение; любовь есть самая сладкая земная радость, она же – молитва и небесное поклонение» [18, с. 204]. В православии именно «сердечный вопль» и есть выражение духовной глубины, которую святитель Феофан Затворник назвал «Жаждою Бога». Таким чувством в полной мере наделен поэт. В его стихах разных лет (1837, 1839 гг.) выражается идея благотворного спасительного воздействия молитвы на душу человека.
Молитва для поэта – «созвучье слов живых», в ней чувствуется «сила благодатная», восхищение величием Божественной истины, готовность вслед за псалмопевцем Давидом произнести слова: «Дивны дела Твои, Господи!» (Пс. 138, 14). Оптинский старец, обладавший по свидетельствам современников даром предвидения, преподобный Варсонофий считал, что в стихотворении 1839 г. Лермонтов обращается к Иисусовой молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного») [19, с. 5]. С этим размышлением о тональности произведения трудно не согласиться.
«Молитва» 1829 г. открывает в поэзии Лермонтова тему духовного диалога человека с Богом, а последующие лирические откровения расширяют диапазон «общения» поэта с трансцендентным собеседником, усиливают активную роль молящегося. Преподобный Варсоно-фий, размышляя над лермонтовской «Молитвой», отмечал, что поэт «испытывал сладость молитвы», «почувствовал, пережил и описал великие моменты богообщения» [20, с. 240].
В воспоминаниях А.О. Смирновой-Россет есть интересные замечания о том, что, несмотря на свои терзания в вопросах веры, Лермонтов умел горячо и трепетно молиться Богу, а когда слушал молитвы Иоанна Златоуста, «обливался слезами…» [21, с. 314]. В стихотворении 1839 г. эти чувства выражены предельно откровенно:
И верится, и плачется,
И так легко, легко… [16, с. 291].
Святые Отцы видят проявление глубокой религиозности в слезах молящегося: «Слезы – это верный признак того, что человек чрез покаяние рождается в новую жизнь, в духовную… У вся- кого человека, пребывающего с Богом, тоже бывают слезы: то когда он в умственном созерцании, то когда читает Священное Писание, то во время молитвы, но это слезы умеренные, радостные, сладостные. В этом случае человек плачет от переизбытка счастья…» [22, с. 25-26].
И. Золотусский справедливо заметил, что в «Молитвах» поэта «нет ни одного слова, всуе сказанного» [23, с. 285]. Примечательна в этом отношении «Молитва странника» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), датированная 1837 г. В этом «лирическом акафисте» (Д. Андреев) наблюдается не только духовный подъем, но и максимально откровенное, искреннее стремление приблизиться посредством молитвенного монолога к сакральному началу. Композиционно стихотворение имеет кольцевое строение, содержание его замкнуто обращениями к Божией Матери и потому сакрально концентрированно, глубоко интимно. Как известно из богодухновенных книг, земная жизнь Богородицы была молчаливым служением Богу, крестным следованием за своим возлюбленным Сыном, страданием и духовной Голгофой. В трогательном обращении к Богоматери поэт поднимается на самую высокую ступень молитвенного диалога с сакральным субъектом высшего порядка – просьбы, мольбы «не за себя», не за свою душу «пустынную», а за чистое невинное существо, пришедшее в земную обитель страданий и слез. Молитва, обращенная к Богоматери, – это «страстное заклинание, чтобы от прекрасной, достойной счастья человеческой души не было отнято счастье, чтобы зло не омрачило “молодость светлую, старость спокойную”, – и “лучший ангел” в конце, в “час прощальный”, знаменует …итог земного пути» [24, c. 161]. Основная часть стихотворения представляет собой земное прошение («Дай ей…»).
Анализируя это поэтическое молитвословие, П.М. Бицилли справедливо отмечал, что молитвенный ритм, создаваемый богатой звуковой инструментовкой, приближает его к «пределу совершенства и гармонии». Ученый считал: «Необыкновенная, неподражаемая мягкость, нежность слов, полнота любви, изливающаяся из них, обусловлена изумительным соответствием смысла с подбором звуков – обилием йото-ванных гласных и самых музыкальных сочетаний л + гласный…» [25, с. 838]. Совершенно очевидно, что Лермонтов был воспитан в христианской вере и стремился к основательному постижению истин православия: «Религия была потребностью его души. Он любил Бога, и эта любовь давала в его поэзии смысл красоте, гар- монии…Его фантазия постоянно рисует храмы, алтари, престолы, кадильницы, ризы, фимиамы …Он был русским православным человеком. Его молитва – это плач сокрушенного сердца или заветная робкая просьба» [26, с. 81].
Стихотворения молитвенного жанра позволяют говорить о христианском мировоззрении Лермонтова. Конечно, его вера не лишена сомнений, однако не они определяют основу твор- ческого сознания. Несмотря на выраженные поэтическим глаголом сомнения в любви Творца к людям и Его способности к вселенскому всепрощению, лермонтовская любовь к Богу очевидна. Здесь, на наш взгляд, важно само направление движения чувств, пути выхода из духовно-нравственных противоречий. Лирическое «я» поэта неизменно устремлялось к высшим идеалам и сакральным сферам бытия.