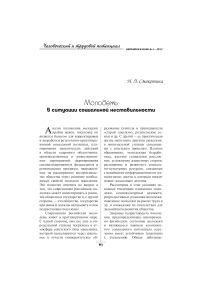Молодежь в ситуации социальной нестабильности
Автор: Смакотина Наталья Леоновна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Человеческий и трудовой потенциал
Статья в выпуске: 3 (57), 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируются основные тенденции изменения российской молодежи в условиях нестабильного развития российского общества.
Молодежь, социальная нестабильность, общество потребления, протестные процессы, дауншифтинг, чайлдфри, добровольно бездетные
Короткий адрес: https://sciup.org/14347416
IDR: 14347416
Текст научной статьи Молодежь в ситуации социальной нестабильности
Молодежь
В ситуации социальной нестабильности
А нализ положения молодежи крайне важен, поскольку он является базисом для корректировки и разработки результатно-ориентированной социальной политики, планирования практических действий в области кадрового обеспечения, производственных и инвестиционных мероприятий, формирования специализированных федеральных и региональных программ, направленных на расширенное воспроизводство общества через развитие необходимых свойств молодого поколения. Это позволит ответить на вопрос о том, что современная российская молодежь может инвестировать в развитие общества и государства и, с другой стороны, – что общество, государство призваны и должны вкладывать в свое подрастающее поколение.
Современная российская молодежь живет в противоречивом мире. С одной стороны, она все еще в определенной степени погружена в атмосферу советского типа мышления, который транслируется через школьное и отчасти университетское об- разование (учителя и преподаватели «старой закалки»), родительские семьи и др. С другой – ее практическая жизнь наполнена другими сюжетами, в минимальной степени связанными с советским прошлым. Платное образование, молодежная безработица, жесткое социальное расслоение, усложнение жизненных стартов, расширение и развитость социально-культурных ресурсов, связанных с новейшими информационными технологиями, доступ к которым вносит новые «классовые» деления.
Рассмотрим в этих условиях основные тенденции изменения молодежи, социокультурные ценности, репродуктивные установки молодежи, поведение молодежи на рынке труда и др. и возможные их последствия для дальнейшего развития общества.
Здоровье подрастающего поколения, предопределяющее одновременно физическое состояние молодежи и являющееся важным компонентом социального потенциала населения имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. Общая заболевае- мость подростков 15–17 лет выросла с 4,7 млн человек до 6,8 млн за 1995– 2009 гг. [1. С. 33]. На состояние здоровья человека влияют разнообразные факторы, среди них могут быть представлены такие, как питание, условия и образ жизни людей, генетика и наследственность, внешняя среда и природные условия, здравоохранение и, наконец, понимание ценности здоровья в сознании молодых людей.
Обращает внимание неравномерное пополнение воспроизводственного потенциала молодежи. После 1993 г., с развалом СССР и появлением, так называемой Новой России, продолжительность жизни и уровень жизни в целом резко снизился. Крах экономики, социально-экономический кризис в стране привели к тому, что людям надо было выживать, произошел резкий спад во всех отраслях жизнедеятельности людей, особенно это отразилось на демографических характеристиках. За период с 1995 г. по 2005 г. численность молодежи в возрасте 15–29 лет увеличилась с 30 962 тыс. человек до 35 279 тыс. человек; а с 2005 г. по 2009 г. снизилась до 33 009 тыс. человек в 2009 г. [1. С. 9].
Возрастная структура молодежи представляет следующую картину (в процентах от общей численности молодежи, на конец года): доля молодых людей в возрасте 15–19 лет в 1995 г. составляла 35,5%, в 2009 г. – 25,8%; доля молодых людей в возрасте 20–24 года в 1995 г. составляла 35,5%, в 2009 г. – 37,1%; доля молодых людей в возрасте 25– 29 лет в 1995 г. составляла 31,0%, в2009г.–37,1%.Удельныйвесмолоде-живвозрасте16–29летвчисленности населения трудоспособного возраста по Российской Федерации составил (на конец года): в 1995 г. – 33,9%;
в 2000 г. – 35,7%; в 2005 г. –36,8%, в 2009 г. –35,7% [1. С. 17–18].
В России происходит изменение репродуктивных установок и меняется модель рождаемости. Наблюдается тенденция ориентации на европейскую модель построения семьи: возраст вступления в брак и возраст рождения первого ребенка увеличиваются. Например, в 1993 г. женщины рожали первого ребенка в 21,5 год, в 2003 г. – уже в 23 года, в 2009 г. – после 24 лет.
Потребности производства не стимулируют рост образования и квалификации молодых работников. По данным Рособразования и Росстата, выпуск квалифицированных рабочих в 2001 г. составил 758,6 тыс. человек, в 2009 г. – 537,6 тыс. человек, за указанный период численность выпуска квалифицированных рабочих упала на 221 тыс. человек. Численность выпускников, окончивших дневные образовательные учреждения начального профессионального образования, получивших направления на работу снизился с 393,1 тыс. человек в 1995 г. до 240,2 тыс. в 2009г. Удельный вес лиц, не получивших направления на работу, составил: в 1995 г. – 42,9%, в 2009 г. – 43,9% [1. С. 73]. В то же время выпуск специалистов высшего профессионального образования увеличился за период с 1995 г. по 2009 г. на 1039,1 тыс. человек [1. С. 80].
Уровень безработицы людей в возрасте от 15 до 29 лет в 1995 г. составил 55%, в 2000 г. – 59,1%, в 2005 г. – 46,7%, а в 2009 г. – 56,8% [1. С. 105–106]. Под ударом продолжительной безработицы находится молодежь преимущественно в тех возрастных когортах, в которых наиболее интенсивно идут процессы социально-профессионального становления и, следовательно, в которых молодые люди уязвимы для маргинализации, отчуждения от общества и социального исключения. В условиях глобальных социокультурных изменений и «утраты социальной реальности», свобода и страх выступают регулятивами поведения человека, а также основаниями различного рода предпочтений, выборов и способов идентификации в понятиях ответственности и гордости.
Социально–экономические и социально–психологические противоречия перехода к рыночным отношениям привели к переориентации поколений молодежи от коллективистских духовных ценностей на индивидуалистические.
Значимым ориентиром в схеме социального развития молодежи в условиях нестабильности выделяется общественно-политический, одним из показателей которого выступает протестность молодежи.
Современный молодежный протест детерминируется:
-
■ кризисом основных социальных институтов общества;
-
■ коммерционализацией средств массовой информации, формирующих определенный «образ» субкультуры;
-
■ деформацией и разрушением образа гуманного человека;
-
■ подменой норм и ценностей высокой культуры усредненными образцами массовой культуры;
-
■ противоречиями государственной молодежной политики, прежде всего в сфере трудовой занятости и профессионального образования, семейного воспитания, организации досуга молодежи.
Сегодня молодежь несет протестный потенциал не меньший, чем все население России в целом. Активность канализируется во вполне легальные формы в способах влияния на власть, допустимых в современных условиях. Молодежная опора власти не локализирована в каких-то социальнодемографических группах. Факторы, которые определяют «провластную» или «противовластную» ориентацию молодежи, – это, скорее, культурные и психологические факторы, нежели социальные [2].
Динамичные изменения российского общества в конце 1980-х годов привели к развитию общества потребления и, как следствие, – протестным процессам. Среди множества однонаправленных повторяющихся действий можно выделить ряд социальных действий, отрицающих принципы общества потребления и выражающие несогласие с существующим порядком вещей в целом или выступления против определенных тенденций внутри него. Среди актуальных протестных процессов современного российского общества потребления необходимо также назвать дауншифтинг и чайлдфри. Данные протестные процессы ярко выражены не только в странах Запада, а так же проявляются и в России.
По данным экспертов фонда «Общественное мнение», проводивших социологический опрос по поводу демографической ситуации в России, доля тех, кто желает иметь двоих и более детей, снизилась с 44% до 40% с 2001 по 2006 г. [3]. В то же время доля россиян, вообще не желающих иметь детей, выросла с 3% до 7%.
Согласно статистике, более половины российских семей имеют одного ребенка, и только около 9% – трех и более детей. По данным исследований «Левада-Центра», 67% россиян заявили о том, что не собираются в ближайшие 2–3 года рожать хотя бы одного ребенка. Еще 6% опрошенных заявили, что скорее не будут этого делать. Лишь 9% скорее заведут еще ребенка в ближайшие несколько лет, а 8% всерьез намерены это сделать. Эти показатели несколько выше уровня начала 2000-х, но все-таки невелики [4].
Российские и западные сознательно бездетные имеют одинаковые причины: карьерный рост, боязнь потерять работу, эгоистическое начало, страх перед родами, ответственность за ребёнка, смерть детей, финансовые проблемы, возможность оказаться плохим родителем, по причине непривитого или неразвитого родительского (материнского) инстинкта.
В России многие чайлдфри отмечали экономический фактор. Однако демографы утверждают, что основной причиной, влияющей на деторождение, является так называемая потребность в детях, определяющаяся всей системой ценностей человека и его образом жизни. Для большинства же современных чайлдфри в России, особенно проживающих в крупных городах, значимость наличия детей ниже по ценности карьерного роста и досуга. Для России это достаточно новое явление, но количество чайлдфри, как и на Западе, неуклонно растет. На Западе общество более лояльно по отношению к чайлдфри, тогда как в России на уровне ценностей бездетность признается легитимной репродуктивной стратегией, но на уровне индивидуальных установок эта стратегия по-прежнему довольно маргинальна и критикуется обществом.
Чем выше уровень жизни в стране, тем больше людей пересматривают свое отношение к процессу работы и уровню дохода. В свою очередь, идеология дауншифтинга строится на том, что свободное время и возможность заниматься развитием личности гораздо важнее карьерной гонки. Главное отличие российского дауншифтинга от зарубежного – в разных стартовых условиях и возможных последствиях. В России по-прежнему очень высока значимость материальных ценностей и достатка, тогда как дауншифтинг – скорее следствие определенной пресыщенности вследствие высокого экономического развития, стабильности и социальных гарантий, которые в нашей стране пока не достигли уровня развитых стран.
Российская молодежь в условиях нестабильности разделяется на неравные социальные группы, обладающие своим социальным потенциа-лом.Вцелом,наблюдаетсятенденция к снижению социального потенциала современной молодежи, детерминантами которой выступает ухудшение состояния здоровья, снижение качества образования и профессиональной компетентности, невысокий уровень материального обеспечения, рост стихийности в общественнополитической сфере, девальвация значительной части традиционных ценностей.
В то же время поколение молодежи 2000-х годов характеризуется протестным потенциалом, выражающимся в новых видах протеста, отражающих социальные изменения в обществе. В динамично меняющемся мире развитие социального потенциала молодежи, которая является субъектом общественного воспроизводства, остается зависимым от динамики развития, характера институциональной системы и специфики ее изменения.