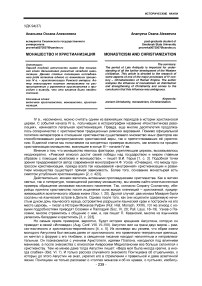Монашество и христианизация
Автор: Ананьева Оксана Алексеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4, 2011 года.
Бесплатный доступ
Период поздней античности важен для понимания всего дальнейшего развития западной цивилизации. Данная статья посвящена исследованию ряда аспектов одного из важнейших процессов IV в. - христианизации Римской империи. Автор анализирует влияние монашества на распространение и укрепление христианства и приходит к выводу, что это влияние было неоднозначным.
Античное христианство, монашество, христианизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14933322
IDR: 14933322 | УДК: 94(37)
Текст научной статьи Монашество и христианизация
IV в., несомненно, можно считать одним из важнейших периодов в истории христианской церкви. С событий начала IV в., получивших в историографии название «Константинова революция», начинается легальная христианизация. Правда, еще многие десятилетия продолжалось соперничество с христианством традиционных римских верований. Помимо официальной политики императоров в отношении христианства существовало множество иных факторов как способствовавших распространению христианской веры, так и препятствовавших её укреплению. В данной статье мы попытаемся на конкретных примерах выяснить, как влияло на процесс христианизации монашество, возникшее в конце III – начале IV вв.
Мнение о том, что монашество явилось фактором, укрепляющим церковь, высказывалось неоднократно. «Римский епископ достиг своей победы над государством и миром главным образом с помощью аскетизма и монашества», – пишет В.И. Герье [1, с. 3]. Подобной точки зрения придерживается автор современной монографии Н.Ф. Усков: «Очевидно, что между прогрессом христианизации, прежде всего так называемой «внутренней» христианизации и развитием монашества существует прямая зависимость. Более того, основание монастырей есть симптом углубления христианизации» [2, с. 423].
Действительно, монахи являлись активными проповедниками христианства. Как в житиях святых, так и литературе, посвященной раннему монашеству, мы можем найти многочисленные примеры обращения монахами языческого населения. Так, согласно Сократу Схоластику, иберийцы приняли христианство после исцеления сына вождя пленницей – христианкой, придерживающейся аскетического образа жизни (Socr. I. 20). Другой случай: два монаха Макария были сосланы на языческий остров в Дельте. Однако после того, как они исцелили одержимую нечистым духом дочь языческого жреца, островитяне разрушили языческий храм и построили на его месте церковь, – писал в Истории Монахов Руфин (Ruf. Hist. Monach. XXIX), тот же эпизод с новыми подробностями приводят Созомен и Палладий (Soz. VI. 20; Pall. Laus. 18–19). Узнав о Па-хомии, многие стремились к общению с ним, и, как пишет П. Казанский, многие из язычников увлеклись беседами и крестились [3, с. 223].
Но самым ярким примером, вероятно, будет история крещения Августина, которую он приводит в своей «Исповеди» (Aug. Conf. VIII. VI–VIII). Августин жил на грани двух миров – римско-языческого и христианско-европейского [4, с. 5]. Из исповеди мы узнаем, что образ жизни молодого Августина был весьма далек от христианского: его привлекали театральные зрелища, он мечтал о форуме с его тяжбами, а священное писание находил непонятным и непривлекательным. Он познакомился с учением Аристотеля, идеями Платона, находился под влиянием манихеев, а после знакомства с епископом Амвросием Медиоланским все больше склонялся к христианству. Тем не менее даже тогда Августин пишет: «Вера моя была иногда крепче, а иногда слабее» (Ibid. VI. 7). И только рассказ случайного знакомого Понтициана об отшельниках, о которых до этого Августин не знал, укрепил его в стремлении к правильной и даже аскетичной жизни. Понтициан не только рассказал о «толпах монахов и об их нравах, о пустынях, изобилу- 239 - ющих отшельниками», о городском монастыре в Медиолане и Трире, о которых Августин также ничего ранее не слышал, Понтициан рассказал о двух своих товарищах, вероятно, сенаторского или всаднического сословия, которые познакомившись случайно с жизнеописанием святого Антония, настолько впечатлились его примером, что приняли решение тут же покинуть службу и стать монахами (Aug. Conf. VIII. 6–7).
Для Августина знакомство с образом жизни христианских монахов явилось переломным моментом. Он не порвал резко с предыдущим образом жизни, некоторое время еще преподавал риторику, но в его «Исповеди» показано, что уже было принято решение креститься, и вскоре это желание осуществилось в Милане (Aug. Conf. IX. I–VI).
В то же время аскетический идеал, в ряде случаев, казался недостижимым, и само наличие такого идеала иногда не только не способствовало, а напротив, мешало крещению. Иллюстрирует данное утверждение вновь пример из Августина. Верекунд, друг Августина, тосковал, глядя на счастье, охватившее друзей при крещении. Он не был христианином, но был женат на христианке. Развестись с женой он не мог, а креститься, будучи женатым, считал невозможным (Aug. Conf. IX. III. 5). Таким образом, идеалы аскетизма, девства и безбрачия, которые активно распространялись многими христианскими авторами, не всегда давали положительный результат.
Как отмечает П. Браун, в то время нередко быть христианином означало быть аскетом. Многих устраивало быть новообращенными, и они не хотели большего. Ведь стать христианином обычно означало придерживаться аскетического образа жизни и определенных нравственных норм [5, с. 618].
Влияние аскетизма и монашества, исходя из вышесказанного, на христианизацию было двояко: с одной стороны, благодаря деятельности и примеру аскетов и монахов, многие обратились в христианство, с другой – крайний аскетизм отпугнул некоторых желающих принять крещение.
Тем не менее миссионерство монахов – факт, не подлежащий сомнению. В христианском миссионерстве ряд ученых даже видит истоки современного универсализма, так как монахи крестили людей независимо от их происхождения и цвета кожи [6, р. 464]. И даже приняв во внимание вероятную гипертрофированность сведений, содержащихся в житиях монахов и ранних церковных историях, можно утверждать, что миссионерская деятельность монахов имела место и способствовала популярности христианства и увеличению численности христиан.
Помимо миссионерской деятельности, способствовавшей распространению христианства вширь, следует отметить, что монашество способствовало и укреплению веры благодаря развитию и поощрению паломничеств. Причем, паломников становиться все больше и больше. Один из отцов церкви Иероним Стридонский, который вел монашеский образ жизни в Палестине, при своем монастыре начал строить гостиницу, жалуясь на стекающихся со всего света монахов и паломников. Средств на строительство не хватало, и он вынужден был послать брата Павлиниана в родной Стридон, чтобы тот продал уцелевшие родительские поместья (Hier. Ер. LXVI. 2). Данный пример подтверждает разнообразие способов содействия монахов процессу христианизации, в том числе – оборудование мест паломничеств к святым местам за счет личных средств, что в период кризиса империи было немаловажно.
Монашество активно боролось с ересями. Самым ярким доказательством этого является поддержка монахами ортодоксально настроенного епископа Афанасия Александрийского. Египетские монахи не раз укрывали опального епископа в пустыне, когда императоры оказывали поддержку арианам. Монахи таким образом поддерживали в это непростое время никейское христианство.
Но Афанасий, при всем его уважении к монахам, считает, что на официальном поприще человек приносит больше пользы, чем удалившись от мира. Особенно ясно его мнение выражено в письме Драконтию, который против своего желания был посвящен в сан епископа Геле-опольского, а затем убежал с кафедры и вернулся в любимую пещеру. Афанасий порицает побег и призывает Драконтия вернуться и занять свой пост. Афанасий перечисляет имена многих монахов, сделавшихся епископами, и считает при этом, что на новом поприще они принесли больше пользы, чем будучи монахами. «Сколь многих отвратили они от идолов! – отмечает Афанасий, – Сколь многих убедили отстать от сего демонского обычая! Скольких рабов представили господу! Не великое ли это знамение – сделать, чтобы юная дева хранила девство, и юноша хранил воздержание, и идолослужитель познал Христа?» (Athanasius. Ep. Drac).
Говоря о монашестве, нельзя не отметить радикально и воинственно настроенных монахов, которые были готовы действовать любыми способами. Возможно, к монахам иногда присоединялись маргинальные, агрессивно настроенные личности с готовностью, подхватывающие любой разрушительный призыв. Например, Либаний в речи императору Феодосию пишет о монахах, «которые спешат к храмам, вооружившись камнями и ломами» (Lib.Or. XXX, 8), причем,
Либаний отмечает, что в то время пока одни рушат храмы, другие похищают у бедняков их имущество. По мнению автора, это война с земледельцами (Lib. Or. XXX, 13). В 389 г. был разрушен один из символов язычества – храм Серапсиса, причем монахи приняли в его разрушении активное участие (Eunap. VS, 471–472). Но, наверное, самое известное преступление монахов – убийство александрийской женщины – философа – Ипатии. Даже христианский автор Сократ Схоластик отмечает, что это причинило немало скорби александрийской церкви (Socr. Hist. Eccl. VII. 15). Монашество, таким образом, к началу V в. Продемонстрировало свой, далекий от смирения характер и методы распространения и укрепления христианства, которые трудно оценить положительно и которые, возможно, отвратили от вступления в христианство многих сомневающихся.
В то же время монахи, которые вели суровый аскетический образ жизни и заботились о больных, нищих и странствующих, о вдовах и сиротах, которые в народе начинают считаться посредниками между небом и землей и заступниками перед Богом, несомненно, способствовали укреплению позиций христианства и тем самым дальнейшей христианизации.
Привлекало монашество в ряды христиан и женщин. Христианская церковь с древних времен поощряла женщин играть по отношению к бедным независимую общественную роль: они лично подавали милостыню, посещали больных и от своего имени основывали гробницы и богадельни [7, с. 59]. Однако, несмотря на накопленные богатства и неформальный авторитет сенаторских наследниц, общественных прав они не получили [8, с. 39]. Возможно, не имея больших возможностей реализовать себя в обществе, женщины пытались найти такие возможности в церкви и конкретно в монашестве. Благотворительная деятельность, пожертвования давали им своего рода статус гражданской идентичности.
Раннее монашество – явление обширное и многоплановое, первые монахи – это и представители отшельничества, и бродячие аскеты, и христиане, стремившиеся к общежитийным формам организации жизни. Монашество в IV в. еще не нашло своего места в структуре церкви, не являлось оно пока и субъектом церковного права. Во многом стихийный характер монашества, разнообразие социального состава, полярные представления о монахах, имевшие место в позднеантичную эпоху, – все это говорит о неоднозначном влиянии монашества на общецерковные процессы.
Естественно, деятельность монахов можно рассматривать лишь как вспомогательное средство христианизации, и зачастую лишь государственная власть путем прямых запретов способствовала искоренению язычества. Указы Феодосия, подтверждающие Никейское христианство (CTh XVI. 1. 2; XVI. 5. 6), законы против арианства (CTh XVI. 1. 3; XVI. 5. 11–12), введение штрафов за поклонение древним богам (СTh XVI. 10. 11) подтверждают роль государства в христианизации империи. Постановления церковных соборов, миссионерство, деятельность монахов играли важную роль, но результат церковной политики, успехи христианизации римского общества зависели от взаимоотношения Церкви со светскими властями.
Ссылки:
Список литературы Монашество и христианизация
- Герье В.И. Западное монашество и папство. М., 1913.
- Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. СПб., 2001.
- Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. М., 2000
- Герье В.И. Западное монашество и папство. М., 1913.
- Brown P. Asceticism: Pagan and Christian//The Cambridge Ancient History. Vol. XIII. Cambridge, 1998.
- Аngenent А. Toleranz und Gewalt: Das ChristentumzwischenBibel und Schwert. Munster, 2007.
- Браун П. Культ святых и его становление в латинском христианстве. М., 2004.