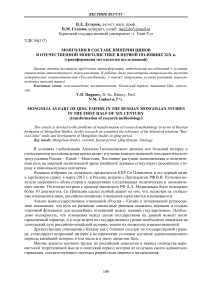Монголия в составе империи Цинов в отечественной монголистике в первой половине XIX в. (трансформация методологии исследований)
Автор: Дугаров В.Д., Гудеева Н.М.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 6 (45), 2013 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблемам трансформации методологии исследований в условиях становления отечественного монголоведения. В работе была рассмотрена актуальность изучения исторических взаимоотношений «Россия-Китай», а также затронуты условия развития монголоведения в цинский период.
Монголоведение, востоковедение, казанский период, династия цин, синология
Короткий адрес: https://sciup.org/142142785
IDR: 142142785 | УДК: 94(517)
Текст научной статьи Монголия в составе империи Цинов в отечественной монголистике в первой половине XIX в. (трансформация методологии исследований)
В условиях глобализации Азиатско-Тихоокеанского региона все больший интерес в отечественном востоковедении представляет изучение взаимоотношений геостратегического треугольника Россия - Китай - Монголия. Постоянно растущая экономическая и политическая роль на мировой политической арене китайской державы стимулирует российскую сторону к взаимовыгодным контактам.
Недавнее избрание на должность председателя КНР Си Цзиньпина и его первый визит в зарубежную страну в марте 2013 г. в Россию, встречи с Президентом РФ В.В. Путиным показали уверенность обеих сторон в перспективах плодотворных политических и экономических связях. По итогам встречи с премьер-министром РФ Д.А. Медведевым было подписано более 30 документов. Си Цзиньпин сделал особый акцент на том, что, несмотря на глобальные изменения в мире, российско-китайские отношения укрепляются и развиваются.
Анализ межгосударственных отношений «Россия - Китай» в исторической ретроспективе показывает, что путь их развития, совместные решения оказались верными и создали «прочный фундамент для дальнейших отношений между нашими государствами». Необходимо подчеркнуть, что отношения между двумя государствами на данный момент носят гармоничный характер, и в ходе встреч на государственном уровне необходимо опираться на длительный путь российско-китайской истории, анализ их непростых взаимоотношений.
Дружественные отношения с Китаем как с близким соседом по государственной границе, стимулирует возросший интерес к историческим условиям изучения дореволюционного периода китайской истории, в том числе и в эпоху династии Цин.
Многие аспекты научных трудов по российской синологии в период господства марксистской теоретической мысли в советский период истории не получали своего адекватного отражения, соответствующего научным разработкам мирового китаеведения.
Современной науке необходимо в полной мере дать анализ основных сфер, касающихся внешнеполитического и внутреннего устройства империи Цин, чтобы иметь полное представление о своем ближайшем стратегическом союзнике.
Монголоведение и синология в России развивались параллельно с переводами восточной литературы на русский язык, сопровождавшимися комментариями. Переводы на европейские языки восточной литературы начались еще в XVIII в. У истоков исторической отечественной ориенталистики стояли выдающиеся ученые: китаист и монголовед Н.Я. Бичурин (о. Иакинф) *. В трудах многих ученых значительное место занимала монголоведная тематика и отношения Китая и Монголии [2].
Определенным этапом в развитии отечественной востоковедения была диссертация С.И. Андреевской в 2006 г. «Н.Я. Бичурин (архимандрит Иакинф) во главе IX Российской духовной миссии в Китае (1807-1821 гг.)». С.И. Андреевская наиболее полно и достоверно раскрыла особенности и роль незаслуженно забытой IX духовной миссии для отношений между двумя государствами, проанализировала работы Н.Я. Бичурина и подчеркнула их значение для всего отечественного востоковедения.
С открытием 25 июля 1833 г. кафедры монгольского языка в Казанском университете под руководством О.М. Ковалевского («Краткая грамматика монгольского книжного языка», 1835; «Монгольская хрестоматия», 1836-1837) Россия становится единственной страной, где складывается монголистика как самостоятельная наука в ориенталистике [4, с. 46]. В этот период монголоведение было представлено именами выдающихся востоковедов: Н.Я. Бичурина, К.Ф. Голстунского («Монголо-ойратские законы 1640 г.», 1880 г.), В.В. Григорьева («История монголов», 1834), В.П. Васильева, П.И. Кафарова («Дорожные заметки из Пекина до Благовещенска»,1872; «Исторический очерк Уссурийского края в связи с историей Маньчжурии», 1879; «Китайско-русский словарь», 1888, «Извлечения из китайской книги « Шен- ву-цзи» , Пекин, 1907) и др.
Кафедра монгольского языка Казанского университета за 22 года существования (18221855) провела огромную и весьма плодотворную учебно-педагогическую, методическую и научную работу. За три года, по определению монголоведа Д.Б. Улымжиева, «…была подготовлена плеяда ученых-монголоведов, составивших впоследствии гордость российской науки. Иными словами, сформировалась казанская школа монголоведов, во главе которой стоял проф. О.М. Ковалевский (1801-1878) – основатель научного монголоведения в России. Представителями этой школы были А.В. Попов, В.П. Васильев, А.А. Бобровников («Грамматика монгольско-калмыцкого языка», - Казань, 1849), Г. Гомбоев (перевод монгольской летописи «Алтан Тобчи»), К.Ф. Голстунский. У каждого из них была своя судьба и свой нелегкий путь в науку, но всех их объединяли общие интересы и стремление посвятить себя изучению монгольских языков, истории и культуры Монголии и Центральной Азии» [7, с. 6].
Казанское востоковедение имело весьма существенную для нашего исследования особенность. Оно создавалось, наряду с научно-преподавательской деятельностью иностранных и русских ученых, трудом представителей многочисленных азиатских народов России, получивших в подавляющем большинстве образование в российских учебных заведениях.
С востоковедческой деятельностью связано становление академического образования в среде бурятского населения, которое в этот период было представлено именами Д. Банзаро-ва, Г. Гомбоева, А.А. Бобровникова.
С начала XVIII в. в Иркутске началась подготовка специалистов монгольского языка. Трудами представителей православной церкви начинается сбор сведений исторического и этнографического характера о монголоязычных народах, населяющих Байкальский регион.
В истории миссионерской образовательной деятельности Русской православной церкви рассматривались в церковной литературе с XVII в.: «Сибирская летопись», «История Сибирская» С. Ремезова, где было идеологически обосновано присоединение Сибири к России и, что немаловажно, рассматривались вопросы христианско-просветительской деятельности русского народа по отношению к коренному населению, в том числе бурят-монголам [1, с. 161].
Здесь нельзя не упомянуть, что в историографии данного вопроса, в трудах церковных авторов и сибирских церковных деятелях XVIII-XIX вв. история миссионерской образовательной деятельности рассматривалась на страницах: «Иркутских…», «Забайкальских епархиальных ведомостей» и «Приложений…» к ним, в «Трудах православных миссий Восточной Сибири», «Трудах православных миссий Иркутской епархии», «Миссионерского обозрения», «Православного вестника» и других церковных изданий регулярно публиковались отчеты миссий о христианизации коренного населения края [1, с. 161]. В их трудах, по замечанию исследователя З.А. Шагжиной, «традиционные религии сибирских народов представлены как символы языческого невежества и косности, для борьбы с которыми православная церковь прилагает огромные усилия, используя приемы и методы, преодолевая трудности и преграды на пути утверждения правильной религии православного христианства» [10, с. 8 - 9].
В 1725 г. в Иркутске при Вознесеновском монастыре была открыта «Мунгало-русская школа». Это была первая школа в Восточной Сибири, главной задачей которой была подготовка переводчиков монгольского языка, а также миссионерская деятельность. В этот же период в Верхнеудинске, Кяхте, Иркутске активную монголоведную работу ведет один из крупнейщих энтузиастов-монголоведов того времени А.В. Игумнов (1761-1834 гг.). В совершенстве владея бурятским и монгольским языками, он был востребован на государственной и дипломатической работе. Ш.Б. Чимитдоржиев отмечал: «Источники, которыми мы пользовались, твердят в один голос о том, что он делился своими знаниями в языках, занимался переводами и т.д.» [8, с. 6]. Именно А.В. Игумнов стал настоящем учителем восточных языков для приехавших из Казанского университета для изучения языков О.М. Ковалевского и А.В. Попова. Его роль в языковом становлении родоначальников российского монголоведения неоспорима. Наряду с преподаванием монгольского языка А.В. Игумнов большое внимание уделял собиранию монгольских книг, рукописей, их изучению, переводам и составлению словарей. Он сумел собрать богатую коллекцию монгольских рукописей, которая хранится в архивах Петербурга, Иркутска и до конца, к сожалению, не обработана.
В наши дни проблема становления иркутского востоковедения раскрывается во многих трудах восточно-сибирских ученых** [5, с. 9].
23 сентября 1833 г. (по ст.ст.) в приграничном городе Троицкосавске состоялось официальное открытие русско-монгольской войсковой 4-х бурятских полков школы. По своей учебной программе, которая была составлена О.М. Ковалевским по просьбе Иркутского гражданского губернатора И.Б. Цейдлера, войсковая школа стояла близко к уездному училищу, но с рядом существенных отличий. Помимо общих для учебных предметов детей учили читать и писать по-монгольски, христианское вероучение на уроках богословия заменили основами ламаизма, вводились занятия по воинским упражнениям [3, с. 8].
Находившийся в 1830-1833 гг. в Забайкалье среди селенгинских бурят О.М. Ковалевский, посланный туда для совершенствования в монгольском языке, по предположению бурятского ученого Н.В. Кима, подсказал идею о направлении нескольких лучших учеников русско-монгольской школы в Казань для продолжения обучения в гимназии.
Несмотря на препоны царских чиновников, возник редчайший в Российской империи прецедент: четырех инородческих детей, в том числе и Д. Банзарова, и ламу-наставника Г. Никитуева, приняли 25 января 1836 г. на казенный кошт в Казанскую гимназию. С этого времени, можем отметить, начинается официальное обучение представителей бурятского народа в академических учебных образовательных заведениях России европейского образца. В то же время распространившееся с XVII в. вертикальное уйгурско-монгольское письмо на протяжении нескольких столетий являлось родным письменным языком бурятского народа. На нем велось делопроизводство, были написаны исторические хроники, летописи, родословные и созданы оригинальные фольклорно-художественные сочинения. Старомонгольская письменность составляет общее культурное достояние монгольских народов, которые, несмотря на обилие наречий и говоров, успешно применяли ее во многих регионах монгольского мира. Она широко применялась носителями различных диалектов, была всем понятна. В этом было одно из преимуществ и достоинств данного письма, объединяющего родственные монгольские народы, по воле судьбы оказавшиеся в различных государственных объединениях [9, с.11].
Открытие дацанских школ, в которых преподавалось монгольское письмо, как указывает Ш.Б. Чимитдоржиев («Антиманьчжурская освободительная борьба монгольского народа (XVII-XVIII вв.)», Улан-Удэ, 1974; «Россия и Монголия». - М., 1987), привело к росту грамотности среди бурятского населения. Дацанское образование до XIX в. являлось почти единственным очагом просвещения. Обучение в дацанских школах состояло из трех ступеней. Часть учеников-хувараков, пройдя низшую ступень школы, имела право уйти из дацана, возвратиться в свои семьи. На второй ступени обучения увеличивались объем и количество изучаемых предметов, в частности, вводился первоначальный курс философии. До высшей ступени обучения доходили немногие. Окончившие последний курс на третьей ступени получали звание габжи. Наиболее одаренные продолжали повышать свои теоретические знания, изучая отдельные проблемы философии, медицины, теологии и астрономии. Существовали также самостоятельные высшие школы, которые назывались цанитскими. Они располагались в специальных дацанах. Эти школы готовили ученых по богословию и философии, монгольских связей в конце XIX – начале XX века. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 1994. Единархова Н.Е. Кяхтинская торговля в 40-60-е гг. XIX в. и ее влияние на развитие производительных сил России, Китая и Монголии». - 1979; Русские в Монголии: основные направления деятельности, образ жизни и типы поведения (1861-1921 гг.). - 2006; Колонизация Монголии (XVII - начало XX в.): учеб. пособие. - Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2009. Малакшанова К.Л. Монголия в произведениях иркутян // Исследования по культуре народов Центральной Азии. – Улан-Удэ, 1980. Кузьмина Ю.В. Монгольский и Урянхайский вопросы в общественно-политической мысли России (конец XIX - 30-е гг. XX вв.). -1998. Лиштованного Е.И. Исторические взаимоотношения Сибири и Монголии: культура и общество (XIX в. – 30-е гг. XX в.). - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1998; Сибирь и Монголия в прошлом и настоящем: К вопросу о сибирско-монгольской “общности” // Россия и Монголия в многополярном мире: итоги и перспективы сотрудничества на рубеже тысячелетий: материалы междунар. науч.-практ. конф., 13-16 дек. 2000. - Иркутск, 2000 и др.
логике и астрономии. Существовали также самостоятельные высшие школы, которые назывались цанитскими. Они располагались в специальных дацанах. Эти школы готовили ученых по богословию и философии, логике и астрономии [9, с. 11].
Первая светская, так называемая «навигацкая школа» открылась в Иркутске в 1754 г. В 1789 г. на основании нового положения об училищах в Иркутске учреждаются малое и главное народные училища. Первое представляло собой начальную школу, второе – школу повышенного типа, имевшую четыре класса. В главном училище обучали русскому языку, арифметике, гражданской истории, географии, естественной истории, геометрии, архитектуре, механике, физике, латинскому языку. Это была, по существу, первая общеобразовательная школа. В 1790-1793 гг. в целях подготовки переводчиков для торговых, дипломатических и военных надобностей на Востоке вводится преподавание монгольского, китайского, маньчжурского и японского языков, но в 1794 г. обучение этим языкам прекратилось.
Как отмечают в своей работе бурятские ученые Г.Л. Санжиев и Е.Г. Санжиева: «13 февраля 1793 г. в Верхнеудинске было открыто малое народное училище, которое являлось первой школой в Забайкалье и Дальнем Востоке и третьей по всей Восточной Сибири» [6, с. 197].
На протяжении первой половины XIX в. было открыто 11 бурятских училищ: в 1816 г. – Идинское и Тункинское, в 1818 г. – Селенгинское, в 1835 г. – Аларское и Бажеевское, в 1842 г. – Агинское, в 1844 г. – Баргузинское и др. В бурятских училищах обучали русскому языку, «предметам для приходских училищ положенным и монгольской грамоте». К 1860-м гг. из 11 училищ вследствие реакционной политики Николая I действовало всего 4.
Процесс обучения светской грамоте бурятского населения не мог не привести к появлению первых учителей из числа бурят (Я. Болдонов, Н. Алексеев, Ф. Хуреганов, Ц. Онго-дов, С. Чайванов, М. Махусаев и др.). Первым бурятским учителем был Ф. Санжихаев. В 1790 г. он был определен учителем монгольского языка в Иркутском народном училище, преобразованным позднее в гимназию [6, с. 201]. Поступление Д. Банзарова в 1836 г. в Казанскую гимназию, затем в университет, блестящая защита кандидатской диссертации на тему «Черная вера, или шаманство у монголов» в 1846 г., огромная эрудиция бурятского ученого в области востоковедения и знание большого количества языков, на наш взгляд, знаменовали определенный уровень развития светского европейского образования бурятского народа.
В Казанском и Петербургском университетах прошло становление ученого, овладевшего европейской наукой и знаниями бывшего буддийского ламы Г. Гомбоева, который по праву занимает почетное место среди востоковедов России первой половины XIX в.
Таким образом, в первой половине XIX в. строились фундаментальные основы отечественного монголоведения с привлечением к этому процессу представителей бурятского этноса. Политические и экономические задачи Российской империи требовали постоянного роста прогресса в изучении такого сильного и в то же время малоизученного соседа, коим являлся цинский Китай. Современная ситуация между двумя мировыми державами Россией и Китаем обусловливает повышенный интерес к историческим этапам развития межгосударственных отношений, а также более тщательное изучение трансформации методологий исследований в отечественной монголистике и синологии.