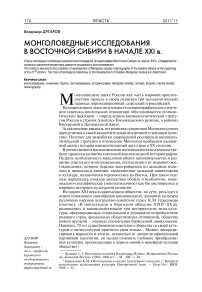Монголоведные исследования в Восточной Сибири в начале XXI в
Автор: Дугаров Владимир Доржиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 11, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам развития монголоведной историографии Восточной Сибири на пороге XXI в. Определяются основные хронологические вехи развития российского монголоведения.
Монголоведение, кочевники, буряты, востоковедение, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/170169305
IDR: 170169305
Текст научной статьи Монголоведные исследования в Восточной Сибири в начале XXI в
М
онголоведная наука России как часть мировой ориенталистики прошла в своем развитии три методологических периода: дореволюционный, советский и российский.
На современном этапе актуальность историографического изучения советско-монгольских отношений обусловливается геополитическим фактором – определением внешнеполитической стратегии России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в районах Внутренней и Центральной Азии1.
За прошедшие двадцать лет развития суверенная Монголия сумела определиться в своей самостоятельной внутренней и внешней политике. Поэтому для разработки современной российской внешнеполитической стратегии в отношении Монголии необходим адекватный анализ истории взаимоотношений двух стран в XX столетии.
В отечественном востоковедении методологического анализа требуют процессы развития советской монголоведной историографии. Назрела необходимость выделения общих закономерностей в развитии советского монголоведения, неотделимого от мирового востоковедения, которое нередко выстраивалось по западным моделям, и процессы и явления, свойственные западной цивилизации и культуре, механически переносились на Восток . При таком подходе нарушалась сложная диалектика общего и особенного, национально-специфическое (монголоязычное) как бы растворялось в мировом историко-культурном развитии.
На пороге XXI века в современном обществе, по сути, речь идет о новом понимании своеобразия национальной, духовной культуры различных народов центрально-азиатских стран. К.М. Герасимова отмечает: «В монгольском и бурятском обществе XVIII–XX вв. развивались и взаимодействовали три исторических типа культуры, сформированные социальными и духовными потребностями родового строя, феодальных общественных отношений, общества нового времени – периода становления буржуазной цивилизации. Наконец, 70 лет существования советского общества со своей культурой и антикультурой принесли свои плоды… Можно дискредитировать марксизм и атеизм, отказаться от догматов официальной партийной идеологии, но нельзя отменить глубокие преобразования культуры, произошедшие в период новой и новейшей истории общества»2.
Культура и образование монголоязычных родов и племен к началу XX в., к периоду великих социальных перемен, носила характер своеобразной центральноазиатской номадной цивилизации. Перед правящими коммунистическими партиями, советским и монгольским правительствами стояла задача формирования особого монголоязычного социального слоя. По определению Л.Н. Гумилева, «у каждого народа есть душа и культура, которая уникальна и неповторима. Душа народа и его культура – это способ его жизни. Каждый живет по-своему, своей собственной жизнью. И способ жизни делается его культурой»1.
Советская монголоведная историография формировала такое своеобразное методологическое понятие, как национальная культура монголов и бурят. Основное значение понятия «национальная культура» ограничивалась сферой «народного творчества» – фольклором, песнями, танцами, художественным оформлением всей бытовой среды «аратских масс», все это было идеологически и теоретически квалифицировано, обосновано и закреплено в партийных документах КПСС и МНРП.
Описанием этих внешних признаков во многом страдала советская монголоведная партийная литература. Она была направлена на формирование теории некапиталистического пути развития монгольского общества через проведение социалистической культурной революции в ранее отсталой стране.
В настоящее время в монголоведной российской историографии оправданно большое внимание начинает уделяться вопросам истории и теории буддизма. Советскими и российскими учеными был разработан блок историографической литературы по этапам становления, особенностям и развитию буддологии в России и Советском Союзе. Однако буддология не получила соответствующего отражения в советском монголоведении.
Распространившееся вместе с буддизмом вертикальное уйгуро-монгольское письмо на протяжении нескольких столетий являлось родным письменным языком монголоязычных народов. На нем велось делопроизводство, были написаны исторические хроники, летописи, родословные и созданы оригинальные фольклорно-художественные сочинения. Старомонгольская письменность составляет общее культурное достояние монгольских народов и несмотря на обилие наречий и говоров, успешно применялась во многих регионах монгольского мира2.
Проблемы буддийской теории и организации самобытного старомонгольского письма, как известно, поднимались в начале XX в. бурятскими национальными лидерами, связанными с обновленческим движением в буддизме.
В период революционных событий 20-х гг. XX в., по замечанию американского монголоведа Р. Рупена, «Жамцарано и несколько других бурятских лидеров, которые пришли из Агинской степи (Барадин, Агван Доржиев, Цыбиков, Бато-Далай Очиров), пытались использовать буддизм в качестве средства объединения и подъема нации»3.
Но по мере развития революционных событий и захвата власти большевиками объединительные идеи бурят, консолидирующихся вокруг буддизма, не получили своего развития и вылились в обновленческое движение в буддизме под идейным руководством Агвана Доржиева.
Агван Доржиев, Цыбен Жамцарано и Базар Барадин в начале XX в. основали в Петербурге издательство «Наран», где в течение ряда лет печатались памятники бурят-монгольской литературы. Здесь также был опубликован так называемый агвановский алфавит. Ц. Жамцарано писал: «Создатель алфавита, или реформатор, имея в перспективе неодномиллионный монгольский народ с определенной письменностью и с растущей литературой, не мог, конечно, рекомендовать монголам совершенно чуждый им алфавит латинского типа…»4
Реформированный алфавит был составлен на базе классического монгольского языка с использованием знаков из ойратс-кого и маньчжурского алфавитов и рассчитан на всех бурят. Однако данный алфавит по ряду причин не нашел практического применения.
В этот же период другой выдающийся бурятский лингвист и общественный деятель Б. Барадин писал: «Если вы будете говорить “по письменному” представителю любого монгольского наречия: хал-хасцу, буряту, восточному монголу и т.д., то вас никто не поймет».
Он первым осознал необходимость замены старого письма на новую письменность, основанную на латинском алфавите, и еще в 1910 г. издал свой вариант. Продолжая работу по переводу письма на новую графику, Б. Барадин считал, что «будущий унифицированный бурят-монгольский язык по грамматической форме должен быть в основном халхасским наре-чием»1.
Этот тезис Б. Барадина считался националистическим, панмонгольским и подвергался жесткой критике. Но он был лишь следствием историко-этнической и языковой общности этих народов, и ничего политически одиозного такое стремление не могло выражать2.
Логика революционно-демократических революционных событий 1920-х гг. в среде монголоязычных народов привела к тому, что, как пишет член-корр. РАН Б.В. Базаров, «первая четверть XX в. в истории монгольских народов характеризовалась исключительным подъемом, который в исторической науке получил самую разную и порой противоречивую оценку... К числу таких вопросов относится и популярный в свое время вопрос о пан-монголизме»3.
Проводя исторические параллели между происходившими в СССР и МНР процессами, необходимо заметить, что идеи панмонгольского движения в 1920-х и первой половине 1930-х гг. И.В. Сталиным и его окружением рассматривались как одна из разновидностей национально-освободительного движения (т.е. важный союзник пролетарской революции) на Востоке, включая близлежащую к СССР зарубежную Азию с ее буддийской верой. Поэтому это учение всячески приветствовалось и поддерживалось. Но когда панмонголизм политически исчерпал себя, не оправдал в полной мере надежды большевиков, он был объявлен аналогом национализма, антисоветизма, контрреволюционной деятельности. В качестве контрреволюционной основы рассматривался и вопрос о роли религии, в нашем случае буддийской, ее огромного духовного наследия и образовательного значения.
В бурятской монголоведной науке, начиная с 90-х гг. XX в., с открытием секретных государственных архивов и хранилищ, архивов ФСБ создан квалифицированный блок научных материалов о панмонгольском движении.
На устранение теоретических и методологических ошибок советского периода историографии направлена методологическая теория взаимодействия кочевых, земледельческих и индустриальных цивилизаций Северной, Восточной и Центральной Азии, развивающаяся со второй половины 1990-х гг. под руководством д.и.н., профессора, члена-корреспондента РАН Б.В. Базарова на базе Института монголоведения, буддологии, тибетологии. Это направление дополнено программой фундаментальных исследований в рамках приоритетных направлений Сибирского отделения РАН «Кочевые, земледельческие и индустриальные цивилизации Северной, Восточной и Центральной Азии: традиции и преемственность в современных взаимодействиях». В разработке этого направления, к которой привлечен отряд квалифицированных востоковедов мирового уровня, отмечаются большие достижения, о чем свидетельствует проведение ряда международных научных конференций, издание трех фундаментальных сборников: «Монгольская империя и кочевой мир» 2004, 2006, 2008 гг., монографической работы «Империя Чингис-хана» (2006 г.) российских ученых Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынниковой, а также научных материалов по истории номадных государств в XX в.
Таким образом, противоречивые процессы развития отечественной монголо-ведной науки, направленные на обоснование некапиталистического пути развития МНР, забвение буддологических знаний в XX в., вопросы национально-государственного строительства для ученых-монголоведов Восточной Сибири имеют свои сложные методологические особенности, которые объективно являются задачами историографов XXI в.