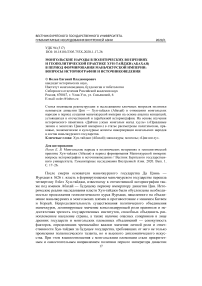Монгольские народы в политических воззрениях и геополитической практике Хун-тайджи (Абахая) в период формирования Маньчжурской империи: вопросы историографии и источниковедения
Бесплатный доступ
Статья посвящена реконструкции и исследованию ключевых вопросов политики основателя династии Цин - Хун-тайджи (Абахай) в отношении монгольских народов в период создания маньчжурской империи на основе анализа концепций, устоявшихся в отечественной и зарубежной историографии. На основе изучения исторического памятника «Дайчин улсын монголын магад хууль» («Правдивые записи о монголах Цинской империи») в статье рассмотрены политические, правовые, экономические и культурные аспекты инкорпорации монгольских народов в состав маньчжурского государства.
Хун-тайджи (абахай), маньчжуры, монголы
Короткий адрес: https://sciup.org/148317466
IDR: 148317466 | УДК: 94 | DOI: 10.18101/2305-753X-2020-1-17-26
Текст научной статьи Монгольские народы в политических воззрениях и геополитической практике Хун-тайджи (Абахая) в период формирования Маньчжурской империи: вопросы историографии и источниковедения
Нолев Е. В. Монгольские народы в политических воззрениях и геополитической практике Хун-тайджи (Абахая) в период формирования Маньчжурской империи: вопросы историографии и источниковедения // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2020. Вып. 1. С. 17‒26.
После смерти основателя маньчжурского государства Да Цзинь — Нурхаци в 1626 г. власть в формирующемся маньчжурском государстве перешла четвертому бэйлэ Хун-тайджи, известному в отечественной историографии также под именем Абахай — будущему первому императору династии Цин. Исторические реалии наследования власти Хун-тайджи были обусловлены необходимостью продолжения геополитического курса Нурхаци, нацеленного на объединение маньчжурских и монгольских племен и противостояние с минским Китаем и Кореей. Непродолжительность существования политического объединения маньчжуров, доминирующее значение консолидирующей роли правителя и недостаточная зрелость государственных институтов, способных объединить разноплеменное население страны, а также наличие опасных соперников в лице древних государств и монгольских племенных объединений — совокупность факторов, определивших чрезвычайно важное значение личной роли и ответственности Хун-тайджи за будущее государства, требовавших от него не только проявления полководческого таланта, но и высокого дипломатического искусства. При этом взаимоотношения с монгольскими племенами стали приоритетным и самостоятельным направлением политики первого императора династии 17
Цин, не только во многом определившим возможности реализации активной внешней политики в отношении Китая, но и обусловившим легитимность правления новой династии во Внутренней Азии.
История изучения маньчжуро-монгольских отношений в период формирования Цинской империи составляет важное направление отечественного и зарубежного востоковедения. В конце XIX в. российским востоковедом — участником 12-й Пекинской духовной миссии В. В. Горским на основе перевода китайских и маньчжурских источников была детально воссоздана история правления Абахая (Хун-тайджи). Тай-цзу (Нурхаци) не назначил преемника, поэтому в соответствии с его завещанием, предполагавшим «управление государством общими силами, но под главным именем одного, того, кто более других явится достойным верховного владычества и станет Ханом», с редким единодушием и самоотвержением Абахай был возведен братьями на престол отца. Среди главных качеств, позволивших новому правителю утвердиться на престоле, В. В. Горский выделял личные заслуги и дарования, народное мнение, а также особенную любовь Тай-цзу (Нурхаци) [4, с. 55]. Характеризуя монгольский вектор геополитики Хун-тайджи, В. В. Горский справедливо отмечал раздробленность монгольских племен и стремление представителей господствующей линии в лице чахарских правителей утвердить колеблющееся владычество в монгольской степи не с помощью союзов с владетельными князьями, а посредством безусловной покорности и истребления «ослушныхъ вассалов». Такая политика, выразителем которой стал Линдань (Лигдан-хан), не могла найти положительного отклика среди владетельных князей, привыкших к независимости, которые готовы были или погибнуть, защищая свою независимость, или признать чужое владычество, «чтобы избегнуть подданства ненавистному им Хану» [4, с. 58]. В условиях нарастающего противостояния между Линданем (Лигдан-ханом), поддерживаемым пекинским двором, и Тай-цзуном (Хун-тайджи) многие монгольские владельцы выражали чувства преданности и покорности новому маньчжурскому правителю. Благодаря покровительству и выверенным дипломатическим действиям Хун-тайджи смог достичь значительных результатов в присоединении монгольских племен, красноречиво проиллюстрированных В. В. Горским: «Вступивши однажды в военный союз с победоносным Маньчжурским Ханом, князья восточных аймаков не смели ни оставить его знамена, ни противиться влиянию и диктаторскому тону своего покровителя, который так искусно и крепко опутал их сетями своих глубоко рассчитанных действий, что не далее 1629 г. был введен Маньчжурский военный устав в аймакахъ Корцинь, Аохань, Найманъ, Халха, Карцинь и в других, и почти вся Восточная Монголия навсегда соединила судьбу свою с историею и жизнью Маньчжурскаго дома» [4, с. 60]. В дальнейшем повествовании вместе с нарастающим влиянием маньчжурского хана среди владетельных монгольских князей (что во многом было обусловлено агрессивной политикой Лигдан-хана, направленной на возвращение былого могущества) В. В. Горский отмечает факт обретения иерархического старшинства Хун-тайджи в монгольском мире согласно китайской стратегии взаимоотношений с пограничными народами. Это произошло благодаря договору с китайским пограничным начальником губернатором Шэнь-ци, по которому Хун-тайджи уступал первенство Китаю в обмен на право считаться выше чахаров и ежегодную выплату более 18
1 миллиона лан серебра за охрану китайской границы [4, с. 80]. Несмотря на то, что данный договор был отвергнут Минским двором, а Шэнь-ци предан суду, сам факт ориентации пограничных властей на маньчжуров может свидетельствовать об изменении геополитической иерархии в степи. Окончательная победа над чахарами и обретение маньчжурским правителем нефритовой печати — символа могущества Юаньского дома и владычества над Поднебесной, по мнению Горского, предопределили решение Хун-тайджи, ранее отказывавшегося от императорского титула в угоду Китаю, «утвердить за собою достоинство, самовластно принятое Тай-цзу (Нурхаци) и не признанное общим согласием соседних владений… Хан воссел на золотом престоле, принял государственную большую печать и титул Любвеобильного, Милосердного Императора и дал название своей династии Дай-цинъ, своему правлению Чунъ-дэ» [4, с. 85].
В советской историографии в условиях доминирования формационной парадигмы были достигнуты значительные результаты в области изучения социально-экономических аспектов ранних монголо-маньчжурских отношений. В сфере осмысления международных отношений во Внутренней Азии в отдельных работах постепенно стала утверждаться концепция a-priori агрессивной завоевательной политики маньчжуров и покорения монгольских народов. Так, в совместном фундаментальном труде Академии наук СССР и Академии наук МНР «История Монгольской Народной Республики» политика первых маньчжурских правителей по отношению к Монголии оценивается как нашествие. При этом отмечается, что агрессивным планам «маньчжурских феодалов» воспротивились как монгольские феодалы, заинтересованные в сохранении политической независимости, так и народные массы Монголии, которым маньчжурское господство не сулило ничего, кроме дополнительного гнета [8, с. 192–193].
И. С. Ермаченко следующим образом описывала положение монгольского населения, попадавшего в руки маньчжурских войск: в результате победы последних «монгольское население раздавалось затем маньчжурским военачальникам и воинам. С монгольскими феодалами из подвергшихся разгрому княжеств либо жестоко расправлялись, либо (что было реже) переселяли их вместе с подданными на маньчжурские земли и выдавали богатые пожалования» [7, с. 40]. При этом, характеризуя статус добровольно присоединившихся монгольских феодалов, исследователь подчеркивает отсутствие в тексте соответствующих клятв упоминания о каких-либо конкретных обязательств с их стороны по отношению к маньчжурскому государству. На основании этого наблюдения предложен вывод о том, что подобные отношения были более характерны для союзов внешнеполитического плана, чем для отношений подданства, хотя и отмечается наличие претензий маньчжурского правителя вмешиваться во внутренние дела монголов [7, с. 43]. Если считать данное предположение справедливым по отношению к политическим ожиданиям монгольских феодалов, беспрекословное соблюдение военных обязанностей монголами, отраженных в тексте Указа Хун-тайджи 1629 г. [7, с. 48], не согласуется с концепцией союза на паритетных основаниях и заставляет переосмыслить изначальный характер присоединения к маньчжурскому государству. Отводя ключевую роль в победе над Чахарским ханством применению маньчжурами тактики раздробления сил противника, И. С. Ерма-ченко вместе с тем указывает на очень важную деталь политической культуры 19
монгольского социума, способствовавшую утверждению власти маньчжурских правителей: с гибелью Лигдан-хана и сдачей в плен его сына Эджэ титул «Все-монгольского хана» оказался без его носителя [7, с. 68].
Г. С. Горохова, однозначно трактуя маньчжурскую политику в отношении Монголии как завоевательную, уделила большое внимание анализу геополитической составляющей борьбы Хун-тайджи и Лигдан-хана. Поражение всемонголь-ского хана объясняется разногласием среди единомышленников Лигдан-хана и переходом части из них на сторону маньчжурского правителя; устранением Минской династии от монгольских дел в связи с опасностью осложнения отношений с маньчжурами; отказом в помощи Лигдан-хану со стороны феодалов Северной Монголии, предпочитавших сохранять нейтралитет. Победа Хун-тайджи ознаменовала новый этап в истории Южной Монголии, превратившейся в провинцию Маньчжурской империи [6, с. 7].
Образное сравнение идентификации маньчжуров в геополитическом пространстве Внутренней Азии до 1636 г. с тремя разными лицами привел в своем исследовании Е. И. Кычанов. По отношению к Минской династии это отражалось в признании статуса зависимого государства — «шуго». В отношениях с монголами практиковалась двойная политика: с одними — заключение союза «мэн», представлявшего собой соглашение равных сторон, скрепленное клятвами: от других требовался переход под власть маньчжуров — «гуйфу», по аналогии с китайским образцом имперской политики. Ученый отмечает, что в отношении тех народов, которые маньчжуры стремились подчинить, проводилась поэтапная политика: сначала направлялось требование покориться, отказ от которого приводил к карательной экспедиции и подчинению силой [10, с. 58].
В западной историографии XX — начала XXI в. были разработаны оригинальные концепции международных отношений во Внутренней Азии в период становления маньчжурской империи. Согласно точке зрения Оуэна Латтимора, правителям Внутренней Монголии было проще принять положение подчиненных союзников, имеющих право на некоторые выгоды от завоеваний, чем, будучи подконтрольными Китаю, бросить вызов маньчжурам [18, с. 86]. Важной вехой в концептуальном осмыслении монголо-маньчжурских отношениях стала работа Йохана Эльверскога. Во-первых, в исследовании поставлен вопрос о правомерности употребления терминов «завоевание» и «подчинение» по отношению к описанию и анализу маньчжуро-монгольских отношений периода формирования маньчжурской империи ввиду модернизации содержания данных понятий в условиях более поздних представлений о могуществе Цинской империи: «хотя хорошо известно, что монголы были более "развитыми", чем маньчжуры, они всегда изображались как подчиненный партнер или жертва в их взаимоотношениях с Цинской династией. Хотя монголы явились основным источником формирования политической структуры, военной организации, правовой системы маньчжуров, мы до сих пор продолжаем воспринимать маньчжуров в качестве верховного повелителя Внутренней Азии XVII в. …мы должны быть осторожны, чтобы представления о более поздней реальности не исказили наш взгляд на ранние отношения…» [17, с. 16]. Во-вторых, исследователь рассматривает вопрос о соотношении концепций империи и улуса в политической культуре Внутренней Азии начала XVII в. и формировании новой имперской идентичности 20
монгольских народов в маньчжурской империи: «Во многих отношениях проблема войны [с монголами] для маньчжуров была меньшей, чем теория "улуса" и ее последствия. В частности, цинским правителям было необходимо, чтобы монгольские племена осознавали себя не полуавтономными аристократическими федерациями в рамках более крупного маньчжурского государства, но как неотъемлемые члены Цинской империи» [17, с. 27].
Томас Дж. Барфилд решающую роль в успехе маньчжуров отводил внешним сношениям, подчеркивая при этом, что политические отношения с монголами для Хун-тайджи были также важны, как отношения с Мин. Это обстоятельство объяснялось, во-первых, необходимостью монгольской территории для маньчжуров в качестве плацдарма набегов на Китай, во-вторых, сохраняющейся опасностью объединения монголов и организации единого фронта, в результате действий которого маньчжуры могли пасть жертвой внешнего вторжения или прекратить свое существование, лишившись объектов для набегов [3, с. 208]. В связи с этим, как отмечает автор, маньчжуры помогали монголам, склоняя последних к сотрудничеству богатыми дарами, за счет собственных подданных [3, с. 207-209]. Опережающий рост маньчжурской армии и аппарата по сравнению с развитием экономической базы государства, а также необходимость «покупки» лояльности и подданства монгольских правителей сформировали своеобразие маньчжурской военной стратегии при Хун-тайджи, ориентированной на получение дополнительных ресурсов, а не на завоевание и присоединение новых территорий. Оценивая результаты правления Хун-тайджи, Барфилд отмечает, что ему «удалось превратить чжурчжэньское племенное ханство отца в "маньчжурскую" империю, способную бросить вызов Китаю» [3, с. 205]. Никола Ди Космо, сравнивая практики объединения монголов в имперских проектах Лигдан-хана и маньчжуров, отмечает преимущество стратегии Нурхаци, основанной на предоставлении защиты отдельным улусам и даровании высоких должностей в противовес беспощадной политике подчинения, проводимой монгольским правителем [15, с. 115].
Маньчжурская политика в работах историков МНР признавалась однозначно агрессивной, результатом которой стало обнищание и полное разорение основной массы скотоводов. В современной монгольской историографии на основе введения в научный оборот новых источников происходит переосмысление ранних маньчжуро-монгольских отношений, развитие которых, по мнению некоторых авторов, диктовалось обоюдовыгодным союзом и обусловливалось стремлением династии Цин учесть межплеменные отношения и исторически сложившуюся систему этнотерриториальных связей в контексте представлений о подданстве и вассальных отношениях [5, с. 200].
В современной российской историографии наряду с инерцией одностороннего понимания содержания ранних монголо-маньчжурских отношений в рамках завоевания и подчинения формируется новое направление исследований на основе ввода малоизученных источников и рассмотрения маньчжурской политики с учетом новейших концептуальных и теоретических достижений в востоковедении. Первое направление представлено в трудах Ш. Б. Чимитдоржиева, по мнению которого, Маньчжурское государство, ставшее почти с первых лет своего существования на путь завоеваний, сыграло весьма негативную роль в истории 21
Монголия, явившейся жертвой захватнической политики маньчжурских правителей. В данном контексте политическая деятельность Хун-тайджи рассматривается в рамках первого этапа национально-освободительного движения монгольского народа, датируемого 1616–1636 гг. [12, с. 102–103]. При этом причины агрессивной внешней политики маньчжурских правителей, по мнению ученого, заключались в развитии феодальных отношений, феодальной экономики, дальнейшем обострении социально-классовых противоречий, стремлении получения прибавочного продукта за счет населения «оккупированных территорий» и открытия новых источников сырья и рынков сбыта в условиях углубления феодальной раздробленности в Монголии, способствовавшей успеху маньчжурской экспансии [13, с. 10–11]. Вместе с тем в трудах современных отечественных востоковедов большое внимание отводится вопросам изучения ментальности различных этнических групп Центральной Азии [11, с. 75–76]. Разрабатываются новые подходы к осмыслению государства маньчжуров, его генезиса и роли во Внутренней Азии с позиции наднациональной империи [1, с. 208], а также значения союза с восточными монголами в развитии маньчжурской государственности [9, с. 217].
Отмечая неоднозначность подходов маньчжурской дипломатии в отношении монгольских княжеств, варьирующихся от альянса и союзов до прямой аннексии, А. Д. Гомбожапов обозначает задачу более полного анализа исторических условий, значения политических терминов, религиозной составляющей маньчжуро-монгольских отношений для обогащения современного понимания значения империи Цин в исторических судьбах народов Центральной Азии [5, с. 200–201]. Большой потенциал в решении указанной задачи обнаруживает анализ малоизученных маньчжурских, китайских и монгольских источников.
В 2013 г. в г. Хух-Хото в Исследовательском центре по своду древних письменных памятников малочисленных народов АРВМ КНР был опубликовал исторический труд под названием «Дайчин улсын монголын магад хууль» («Правдивые записи о монголах Цинской империи») в шести томах на старописьменном монгольском языке [14, с. 4]. Это произведение, основанное на монгольской версии «Цин ши лу» — официальном памятнике историописания Китая периода правления маньчжурской династии, раскрывает важнейшие аспекты политики маньчжурского двора в отношении монгольских племен в строгой хронологической последовательности. Высокое назначение «Правдивых записей», заключающееся в аккумуляции и передаче политической мудрости, с одной стороны, и обосновании легитимности правления династии Цин — с другой, ограничивало доступ к хронике всем, за исключением императора, членам императорской семьи и высшим государственным сановникам и одновременно гарантировало высокую степень объективности зафиксированных исторических сведений.
Составление записей о правлении Хун-тайджи под названием «Правдивые записи светлейшего мудрого императора Тайцзуна» было начато в 1649 г. при правлении императора Фулиня, однако назначенные приказом императора канцлеры Фань Вэньчэн и Гарин не успели окончить эту работу. Поэтому в 1673 г. при императоре Канси была специально создана академия династийной истории страны. Канцлер Лэдэхун на протяжении многих лет занимался составлением памятника, «достав все, что хранится в каменном доме, и разобрав по отдельно- 22
сти сочинения из драгоценного сундука». Работа была завершена в 1682 г. «Правдивые записи светлейшего мудрого императора Тайцзуна» составили по 67 тетрадей, включая свод, на монгольском, китайском и маньчжурском языках. В 1739 г. в период правления Цяньлуна канцлер Урдай по приказу императора привел «Правдивые записи светлейшего мудрого императора Тайцзуна» в соответствие с правилами диакритических знаков и знаков препинания, стали насчитывать по 68 тетрадей на монгольском, китайском и маньчжурском языках, включая свод [2, с. 9].
Благодаря работе сотрудников Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН по переводу указанного памятника со старописьменного монгольского языка мы можем проанализировать сложные вопросы историографического дискурса о геополитике основателя Цинской династии на основе достоверного первоисточника. Автор настоящего исследования выражает глубокую признательность доктору филологических наук Е. В. Сундуевой за возможность использования фрагментов перевода текста.
В начале своего правления Хун-тайджи столкнулся с необходимостью доказательства авторитета своей власти в формирующемся государстве, находившемся под постоянной угрозой центробежных устремлений монгольских правителей, привыкших к автономии. Серьезность притязаний и тонкая дипломатия нового хана отражены в истории конфликта Хун-тайджи и тушэту-эфу Уубы, обвиненного в нарушении клятвы, но впоследствии помилованного после признания своей вины. В тексте «Правдивых записей» особое внимание концентрируется на методах инкорпорации монгольских родов и племен, изъявивших добровольное желание присоединиться к маньчжурскому государству. Так, на просьбу пятнадцати посланников южномонгольских племен о расселении монголов в землях маньчжурского хана Хун-тайджи ответил: «Вы, страдая от бесчинств чахарского хана, в поисках мирной жизни присоединились к нашему государству. Расселяйтесь в тех местах, которые придутся вам по душе» [14, с. 32]. Добровольное присоединение монгольских народов всегда сопровождалось щедрой раздачей титулов и званий присоединившимся аристократам. Также всемерно подчеркивалось единство традиций и обычаев [14, с. 61]. Вместе с тем были установлены строгие предписания для нойонов о недопущении притеснения вновь прибывающих людей: «Говорят, что вы (аоханские, найманские, багарин-ские, джарудские нойны) убиваете людей, прибывающих ко мне с разных сторон. Этим вы сильно испытываете мою милость. Впредь если с ведома нойона будут убиты желающие присоединиться ко мне люди, штраф — десять дворов подданных. Если же простолюдин совершит убийство без ведома нойона, то его самого следует казнить, а семью взять в плен. Если найдутся свидетели, их показания надлежит принять во внимание. Также вам необходимо выставить в своих окрестностях караулы» [14, с. 32].
Присоединенные народы подчинялись уложению маньчжурского государства. В отношении военных обязанностей действовали строгие правила: «Все присоединившиеся народы хороши. В случае необходимости выступить в поход вам надлежит незамедлительно прибыть в условленное место и объединить силы для подавления врага. Нельзя нарушать уговор. В походе на чахаров дожны принять участие командиры знамен и все, кто старше 13 и младше 70 лет. С нойона, 23
не выступившего в поход, взимается 100 лошадей и десять верблюдов. Если он в течение трех суток не достигнет места военного сбора, с него взимается десять лошадей. Если он не прибудет до возвращения войска, также взимается 100 лошадей и десять верблюдов. В походе на Китай должны принять участие по одному командиру, по два тайджи и 100 отборных воинов от каждого знамени. В случае отказа от похода взимается 1000 лошадей и 100 верблюдов…» [14, с. 43]. В 1635 г. Хун-тайджи издал указ об упразднении различий между старыми и новыми маньчжурами, монголами и китайцами [14, с. 130]. Более глубокой инкорпорации монгольских народов в маньчжурское государство было подчинено учреждение, наряду с должностью главы и китайского управляющего, должностей монгольских управляющих при образовании шести министерств в 1631 г. На указанную должность в министерстве чинов был назначен Манджушири; в министерстве финансов — Басхан; в министерстве церемоний — Буяндай; в военном министерстве — Суна; в министерстве общественных работ — Наннуг [14, с. 60]. Таким образом, текст памятника обнаруживает потенциал изучения правовых основ маньчжурской политики как средства инкорпорации монгольских народов, служивших, возможно, эффективным регулятивным инструментом общественной жизни монголов, долгое время находившихся в ситуации децентрализации, постоянных внутренних и внешних угроз.
Обретение Хун-тайджи нефритовой печати династии Юань воспринималось подданными как знак проявления воли Неба. В 1636 г. 49 нойонов из 16 племен внешней Монголии прибыли для пожалования хану почетного титула. Затем аристократы маньчжурского государства обратились к хану: «Нойоны, сановники, военные и гражданские чиновники, а также нойоны внешних племен, возвещаем. Благодаря милости Неба хан-правитель обрел великую славу. Он создал великое государство, приняв под свою власть многие народы. Когда же во всем мире наступили смутные времена, по воле Неба он силой подавил сопротивлявшихся, мудростью присоединил добровольно сдавшихся. Когда слава о его великой милости разнеслась повсеместно, [хан] присоединил корейское государство, объединил монгольские племена и стал обладателем яшмовой печати, являющейся верным знаком обретения власти. Если он вверх поднимется, к нему благосклонно Небо, если вниз спустится, его уважают люди. Мы, сановники, уверенные в вечном процветании великого государства, жалуем высший титул» [14, с. 148]. Примечательна в тексте этой грамоты роль Хун-тайджи как не только созидателя государства, но и объединителя монгольских племен. После согласия хана и последовавшего наставления нойонам проявлять усердие в исполнении служебных обязанностей Хун-тайджи, согласно источнику, был присвоен титул Ахуда-орушиегчи-найрамдагу-хаган (Всемилостивейший миролюбивый Богдо-хан). Название государства было изменено на Великую Цинскую империю [14, с. 149].
Введение в научный оборот российского востоковедения исторического источника «Правдивые записи о монголах Цинской империи» способствует более глубокому осмыслению политики Хун-тайджи в отношении монгольских народов в период создания Цинской империи на основе реконструкции и анализа категорий политической культуры Внутренней Азии первой половины XVII в., правовых норм и культурных традиций. Подобный подход исключает ретроспек- 24
тивное наложение представлений о превосходящем могуществе и завоевательной политике маньчжуров, характерных для более позднего периода цинской истории, по отношению к периоду правления Хун-тайджи, когда будущее имперское величие конструировалось в ситуации неопределенности геополитических перспектив во Внутренней Азии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-59-94006 «История и культура монгольских народов в период правления императора Канси (по материалам памятника «Правдивые записи о монголах Цинской империи»)».
Список литературы Монгольские народы в политических воззрениях и геополитической практике Хун-тайджи (Абахая) в период формирования Маньчжурской империи: вопросы историографии и источниковедения
- К вопросу об инкорпорации монгольских народов в состав Цинской империи / Б. В. Базаров [и др.] // Вопросы истории. 2019. № 11. С. 206–214.
- Базаров Б. В., Нолев Е. В., Цыренов Ч. Ц. Правители маньчжурской династии Китая в традиции летописания "Цин ши лу" // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2018. № 4 (8). С. 5–14.
- Барфилд Т. Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. — 1757 г. н. э.) / пер. Д. В. Рухлядева, В. Б. Кузнецова. СПб., 2009. 488 с.
- Горский В. В. Начало и первые дела Маньчжурского дома // Труды членов Российской Духовной Миссии в Пекине. Том I. Пекин. Издание Пекинской Духовной миссии. Пекин: Типография Успенского монастыря при Русской духовной миссии, 1909. С. 1–108.
- Гомбожапов А. Д. Политика империи Цин в Центральной Азии (историографический обзор) // Власть. 2015. №6. С. 197–201.
- Горохова Г. С. Очерки по истории Монголии в эпоху маньчжурского господства (конец XVII — начало XX в.). М.: Наука, 1980. 132 с.
- Ермаченко И. С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной Монголии в XVII в. М.: Наука, 1974. 196 с.
- История Монгольской Народной Республики. М.: Наука, 1983. 662 с.
- Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.: Восточная литература РАН, 1997. 319 с.
- Кычанов Е. И. Абахай. Новосибирск: Наука, 1986. 152 с.
- Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии / отв. ред. Б. В. Базаров. Иркутск: Оттиск, 2016. 624с.
- Чимитдоржиев Ш. Б. Монголия в эпоху средневековья и новое время. Очерки. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2007. 212 с.
- Чимитдоржиев Ш. Б. Национально-освободительное движение монгольского народа в ХVII–ХVIII вв. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. 216 с.
- Daičing ulus-un mongγul-un maγad qauli [True records of the Mongols of the Qing Empire. Hohhot: The Center of Education of Inner Mongolia publ. 2013. Volume 1. 1236 p.
- Di Cosma N. Nurhaci’s Gambit: Sovereignty as Concept and Praxis in the Rise of the Manchus // The Scaffolding of Sovereignty: Global and Aesthetic Perspectives on the History of a Concept. Columbia University Press. 2017. P. 102–123.
- Di Cosma N. From Alliance to Tutelage: A Historical Analysis of Manchu-Mongol Relations before the Qing Conquest // Front. Hist. China. 2012. № 7 (2). P. 175–197.
- Elverskog J. Our great Qing: the Mongols, Buddhism and the state in late imperial China. Honolulu: University of Hawai‘i Press. 2006. 242 p.
- Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. Boston. Beacon press. 1940. 585 p.