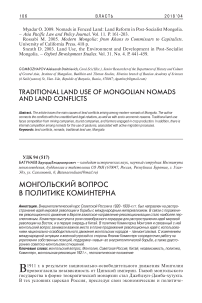Монгольский вопрос в политике Коминтерна
Автор: Батунаев Эдуард Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
Внешнеполитический курс Советской России в 1920-1930-х гг. был направлен на распространение идей мировой революции и борьбы с международным империализмом. В связи с поражением революционного движения в Европе азиатское направление революционизации стало наиболее перспективным. Коминтерн выступал в роли своеобразного коридора идей мировой революции на Восток, и в первую очередь в Китай. В политике Коминтерна Монголия и связанный с ней монгольский вопрос занимали важное место в плане продвижения революционных идей с использованием национально-освободительного движения монгольских народов - панмонголизма. С изменением международной ситуации и военной угрозой со стороны Японии Коминтерн сосредоточил работу на укреплении собственных позиций, поддержке «левых» во внутриполитической борьбе, а также двусторонних советско-монгольских отношений.
Монгольский вопрос, монголия, советская Россия, китай, независимость, политика, коминтерн, монгольская революция 1921 г., геополитическое положение
Короткий адрес: https://sciup.org/170169010
IDR: 170169010 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v26i4.5771
Текст научной статьи Монгольский вопрос в политике Коминтерна
В1911 г. в результате национально-освободительного движения Монголия провозгласила независимость от Цинской империи. Главой монгольского государства в форме теократической монархии стал Джебцзун-Дамба-хутухта. В тех условиях царская Россия, преследуя свои экономические и политиче- ские цели, поддержала вновь созданное монгольское государство и выступила в роли посредника в решении монгольского вопроса. Таким образом, с одной стороны, Монголия была своеобразным мостом в русско-китайской торговле, а с другой – представляла буфер, предохраняющий от возможной экспансии с востока. Тем самым монгольский вопрос оставался одним из приоритетных направлений не только внешней, но и внутренней политики России.
После подписания ряда договоров по решению монгольского вопроса (русско-монгольский договор 1912 г., русско-китайская декларация 1913 г., русско-китайско-монгольское соглашение 1915 г.) был определен юридический статус Монголии как широкой автономии в составе Китая. Это означало, что Монголия де-юре находилась в составе Китая, а де-факто была независимым государством. На тот момент такое положение Монголии отражало баланс сил, сложившийся между Россией и Китаем. Революция и Гражданская война в России по сути сломали действовавшую на тот момент Кяхтинскую систему 1915 г. и вывели на политическую арену новых акторов, тем самым существенно повлияв на расстановку сил в Центрально-Азиатском регионе.
Китай, воспользовавшись ослаблением России, в 1919 г. ликвидировал автономию Внешней Монголии, грубо нарушив кяхтинское тройственное соглашение 1915 г. Китайский корпус под командованием генерала Сюй Шучжэна оккупировал столицу страны Ургу. В этих условиях в Монголии возникают первые революционные кружки с целью национального освобождения страны от китайских и белогвардейских оккупантов. Единственной страной, которая могла оказать помощь в борьбе за национальную независимость, стала Советская Россия. В связи с этим для обращения за помощью к Советской России была отправлена делегация монгольских революционеров – знаменитая «семерка» (Данзан, Лосол, Чагдаржав, Догсом, Л. Дэндэв Сухэ-Батор, Чойболсан). По мнению А.С. Железнякова, «в этих условиях монгольская делегация оказалась перед выбором: вернуться на родину ни с чем или попытаться разобраться в логике большевистского видения будущего Монголии. В спорах и столкновениях как внутри делегации, так и с советскими партнерами по переговорам у отдельных “кружковцев” зрело убеждение в целесообразности сделать ставку на то, чтобы заинтересовать большевиков возможностью создания в Монголии своеобразной степной Коммуны» [Железняков 2001: 49]. Идеологической основой перехода Монголии к «некапиталистическому пути развития» стало высказывание В.И. Ленина на встрече с монгольской делегацией: «…единственно правильным путем для… вашей страны является борьба за государственную и хозяйственную независимость в союзе с рабочими и крестьянами Советской России» [Ленин 1983: 246]. Более того, руководство большевиков рассматривало азиатские страны как один из наиболее перспективных регионов для продвижения идей мировой революции. В 1919–1920 гг. исполком Коминтерна создал ряд органов, занимавшихся проблемами национально-освободительного движения в разных регионах мира. Координацию всей работы по развертыванию национально-освободительной борьбы осуществлял восточный отдел, созданный по решению бюро ИККИ от 11 декабря 1919 г. [Адибеков 1997: 10].
При Сиббюро РКП(б) была организована секция восточных народов, в которую вошли китайский, корейский, монголо-тибетский, японский отделы. В ходе реформирования секция перешла в ведение Дальневосточного секретариата ИККИ [Адибеков 1997: 26]. Его руководителем был назначен известный революционер, член реввоенсовета 5-й армии, член Сибревкома, уполномоченный Наркомата иностранных дел на Дальнем Востоке Б.З. Шумяцкий. Особая заслуга Б.З. Шумяцкого состояла в привлечении в Монголию кадров, способных трудиться на различных участках государственной и хозяйственной деятельности. В Монголии работали видные представители бурятской национальной интеллигенции, такие как Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, Э. Батухан, Б. Ишидоржин, которые сыграли важную роль в становлении нового монгольского государства. Секция, являвшаяся фактически филиалом Коминтерна, была основным центром «революционной дипломатии» в сопредельных странах Дальнего Востока. В задачи секции входили подготовка и организация коммунистических групп и партий в Китае, Японии, Корее и Монголии; военно-техническая и идеологическая помощь оппозиционным силам (не обязательно коммунистическим) в этих странах; подготовка профессиональных революционеров из числа национальных кадров. Л.Б. Жабаева в деятельности Коминтерна в Монголии первой половины 1920-х гг. выделяет два основных направления: «Во внешнеполитическом плане… большевистские руководители рассматривали Монголию как вполне конкретный плацдарм продвижения революции вглубь Азии, как перевалочную базу снабжения китайских революционеров. Во внутреннем плане проводилась линия на упрочнение позиций ВКП(б), Коминтерна и Советов, на преодоление упорного противодействия и даже противоборства со стороны правительства МНР, выступавшего за самобытный путь развития» [Жабаева 2001: 272].
После того как барон Унгерн захватил Ургу и изгнал оттуда китайцев, задача Коминтерна с политической точки зрения стала значительно проще. На первый план выдвигается борьба с бароном Унгерном. Делу освобождения Монголии был придан характер ликвидации «классового врага» и уничтожения опасного для советских границ плацдарма в Монголии. В военном отношении существовали два варианта уничтожения Азиатской дивизии Унгерна. Руководитель Дальневосточного секретариата Коминтерна Б.З. Шумяцкий предложил план разгрома Унгерна путем завлечения его к советской границе с использованием в качестве приманки монгольских революционных отрядов. «Этот план, – отмечал он в одном из писем наркому по иностранным делам Г.В. Чичерину, – позволил бы избежать изнурительного… и не нужного для советской России похода на Ургу». Другой подход, разработанный в правительстве ДВР, наоборот, предусматривал военный поход на столицу Внешней Монголии [Монгол ардын… 1971: 74].
В связи с этим все более активизировалась деятельность Коминтерна в Монголии, направленная на всемерное содействие китайской революции, усиление советского и коминтерновского влияния на монгольской территории. Деятельность монголо-тибетского отдела секции восточных народов (далее – Секвостнар), общей задачей которого было революционизирование монголо-тибетской массы, распространение на нее влияния Советской России и вовлечение в борьбу с мировым империализмом в его азиатских проявлениях, должна была строиться на безусловном учете особенностей, которые являются результатами экономического уклада этих двух стран и их исторической судьбы. В планы монголо-тибетского отдела Секвостнара входили установление отношений с Тибетом, организация отделов партии в крупных центрах Монголии, вербовка способных агитаторов, создание агентуры и т.д. В связи с этим было принято решение о создании политической и военной школы в г. Иркутске для подготовки кадров с преподаванием на монгольском языке. По линии Коминтерна оказывалась существенная помощь: снабжение финансами, военными инструкторами из числа бурятов и калмыков, а также поставка оружия и других материальных средств. Уже на данном этапе Коминтерн предлагал использовать в Монголии «панмонгольскую основу для революционного движения», что дало бы «положительный материал к… пробуждению национального самосознания монголов»; «тактику единого фронта всех слоев населения Монголии на почве активной революционной борьбы с китайским империализмом». Левые лозунги, направленные на разжигание классовой борьбы внутри Монголии между аратами и князьями, и организацию совдепов Коминтерн считал преждевременными, сохраняя их на будущее [Лузянин 1995: 75]. Коминтерн для достижения своей цели в деле распространения мировой революции поддерживал панмонгольские устремления, стремясь использовать многочисленные монголоязычные народы Внутренней Монголии для револю-ционизации Китая. В связи с этим поддерживались связи по линии Коминтерна с НРП Внутренней Монголии.
Стратегически Китай оставался соперником Советской России в связи с тем, что последняя оказывала помощь монгольским революционерам, борющимся за независимость, но тактически в конце 1919 – начале 1920 г. коминтерновское руководство рассматривало его как возможного временного союзника в борьбе с семеновским режимом и влиянием «старой» России. По мере подготовки коммунистических групп из китайского, монголо-тибетского, корейского, японского отделов секция восточных народов перебрасывает их в соответствующие страны для организации и ведения работы на местах как «партий самостоятельных, предварительно представляя их на утверждение в ЦК и через него Коминтерну» [Лузянин 2000: 89].
Необходимо отметить, что советская власть не хотела в этот период портить отношения с китайским режимом из-за Монголии и открыто включаться в монгольские дела. Идея Китайской Федерации, прозвучавшая на переговорах в Иркутске и Москве, была вновь обозначена в Платформе (программе) Монгольской народной партии, принятой 1–3 марта 1921 г. в г. Кяхте. В ней, в частности, говорилось: «МНП стремится: в будущем, объединив все монгольские народы, создать единое государство; ныне – сбросив жестокий китайский гнет, восстановить власть недавно уничтоженной автономной Внешней Монголии (п. 2)» [Лузянин 2000: 232].
В следующем пункте говорилось о том, что поскольку Китай населяют многие народы, различные по происхождению и вероисповеданию, то его следовало бы разделить на несколько независимых государств – Южный Китай, Северный Китай, Сычуань, Тибет, Туркестан, Маньчжурию, Монголию, которые были бы связаны договором о взаимопомощи. Это было бы договорное (федеративное) Срединное государство, которое могло бы успешно бороться с внешними империалистическими странами и МНП за участие в таком государстве [Монголия в документах… 2012: 28-29].
Но в то же время Коминтерн постоянно контролировал вопросы политики, идеологии и организации не только своих коммунистических секций, но и сочувствующих партий, не всегда учитывая условия этих стран, предъявляя к ним требования единого образца, зачастую бесцеремонно вмешиваясь в их внутренние дела, навешивая на сомневающихся в его политике ярлыки «правых» или «левых» оппортунистов и даже решая судьбу их руководителей. Кроме того, президиум ИККИ принял специальную резолюцию по монгольскому вопросу, на содержании которой сильно сказались итоги V Конгресса Коминтерна (июнь–июль 1924 г.), выдвинувшего задачу большевизации партий-секций. Главный смысл резолюции – распространить идеи большевизации на МНП (хотя эта партия была лишь «сочувствующей»), добиться реализации политического курса «левых» [История Монголии… 2007: 75]. По мнению монгольского историка О. Батсайхана, «со стороны Коминтерна предпринимались попытки по расколу руководителей партии и государства Монголии на “правых” и “левых”, а также по делению на “сельских” и “городских”, “старых”
и “молодых”» [Батсайхан 2014: 203]. Коминтерн и его полномочные представители в Монголии стремились пересмотреть ориентацию на национальнодемократическое развитие страны, организовать внутри монгольского общества силы, признающие социалистические цели и борющиеся за то, чтобы противопоставить «левых» монгольских руководителей «правым». Вместе с тем следует упомянуть о серьезном личном и политическом конфликте представителя Коминтерна МНР Турара Рыскулова с видным бурятским деятелем Э.-Д. Ринчино, командированным в Монголию Дальневосточным секретариатом Коминтерна в 1921 г. в качестве советника правительства. Э.-Д. Ринчино в Монголии участвовал в разгроме частей барона Унгерна, за что в 1922 г. был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Ринчино в своих взглядах удивительным образом пытался совместить идеи панмонголизма и мирового революционного движения, которые, в свою очередь, не совпадали с общей политикой коминтерновского руководства. Борьба Т. Рыскулова и Э.-Д. Ринчино проявлялась через призму личной неприязни и соревнования за влияние. Следует отметить, что в углублении конфликта определенную роль сыграла позиция полпредства в лице А.Н. Васильева, поддерживающего Э.-Д. Ринчино и имевшего старые счеты с Т. Рыскуловым по Туркестану [Рощин 1997: 63]. Тем не менее было сделано немало полезного по содействию активизации всей общественной жизни, разработке важных документов. В то же время были допущены промахи и ошибки: слабый учет местных особенностей, авторитарные методы, чрезмерный радикализм. Рыскулов разделял бытовавшее в Москве мнение, что пора освободить монголов от влияния Ринчино. 15 июня 1925 г. ЦК МНРП на закрытом заседании принял решение обратиться в ИККИ с просьбой отозвать в Москву и Рыскулова, и Ринчино [Лузянин 1996: 70]. По мнению С.К. Рощина, «национальным демократам, находившимся под перекрестным огнем критики со стороны коминтерновских представителей и худонской оппозиции, с немалым трудом удавалось проводить свою политическую линию и сохранять единство своих рядов». По существу, тогда, в феврале 1927 г., национальные демократы кратко сформулировали свое политическое кредо, суть которого заключалась в укреплении монгольских национальных корней (т.е. в обеспечении национального возрождения Монголии), устранении разграничений на ургин-цев и худонцев, на «старых» и «новых». Правда, вскоре под давлением коминтерновской политики партийное руководство отмежевалось от этого призыва, но он был популярным и в известной мере фактически продолжал действовать.
К 1928 г. в руководстве ВКП(б) и исполкоме Коминтерна (ИККИ) укреплялась линия на усиление борьбы с «правой опасностью» в МНР. На VII съезде МНРП (23 октября – 11 декабря 1928 г.) национальные демократы («правые») потерпели поражение. Решающую роль в этом сыграла делегация Коминтерна, которая руководствовалась резолюцией ИККИ по монгольскому вопросу от 14 сентября 1928 г. [Рощин 1997: 59]. В начале 1932 г. в Москве пришли к выводу, что настала пора детально обсудить монгольский вопрос в связи с сигналами об ухудшении положения в стране, о разногласиях в монгольском руководстве и среди советских и коминтерновских представителей. Это означало, что многолетняя практика работы уполномоченных Коминтерна заканчивалась, Москва решила переходить на «единоначалие». Курс брался на приоритеты двухсторонних межпартийных связей между ВКП(б) и МНРП и межгосударственных отношений между СССР и МНР [История Монголии… 2007: 94]. Политика МНРП, направленная на форсированное строительство социализма и переход к «некапиталистическому пути развития», получила название левого курса. Ошибки и перегибы проводимого курса, в частности антирелигиозная кампания, насильственная коллективизация, повышение налогов на монастырские хозяйства, вызвали широкую волну недовольства среди населения, результатом чего стало восстание в Монголии в 1932 г. Восстание было жестоко подавлено с помощью вооруженных сил МНРА, его участники были подвергнуты преследованиям и репрессиям. На III чрезвычайном пленуме ЦК МНРП были приняты решения, направленные на исправление ошибок «левого курса», которые вошли в историю под названием политики «нового курса».
Таким образом, политика Коминтерна в Монголии, с одной стороны, проводилась в рамках продвижения идей мировой революции на Восток, где Монголия выступала в роли плацдарма для революционизации Китая с использованием национально-освободительного движения монгольских народов, идей панмонголизма, а с другой – для укрепления собственных позиций Коминтерна и советских партийных структур во внутриполитической борьбе и реализации планов по некапиталистическому развитию Монголии. С измене -нием международной ситуации в 1930–1940-х гг., связанным с агрессивными планами Японии, внешнеполитический курс Коминтерна в Монголии был пересмотрен в сторону укрепления обороноспособности и развития советско-монгольских межпартийных связей.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту № 0338-2016-0003 «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии».
Список литературы Монгольский вопрос в политике Коминтерна
- Адибеков Г.М. 1997. Организационная структура Коминтерна. 1919-1943. М.: РОССПЭН. 287 c
- Батсайхан О. 2014. Монголия на пути к государству-нации (1911-1946). Иркутск: Оттиск. 384 с
- Жабаева Л.Б. 2001. Элбек-Доржи Ринчино и национально-демократическое движение монгольских народов. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ. 334 c
- Железняков А.С. 2001. Рождение монгольского коммунизма. -Вестник Московского университета. Сер. 13. № 1. С. 46-60
- История Монголии XX век (под. ред. Р.Б. Рыбакова, Г.С. Яскиной). 2007. М.: Институт востоковедения РАН. 448 с
- Ленин В.И. 1983. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат. Т. 44. 662 c
- Лузянин С.Г. Монголия между Китаем и Советской Россией (1920-1924) //Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 9. С. 71-84
- Лузянин С.Г. 1996. Коминтерн, Монголия и Китайская революция 1925-1927 гг. -Восток. № 1. С. 65-75
- Лузянин С.Г. Россия-Монголия-Китай в первой половине XX века. Политические взаимоотношения в 1911-1946 гг. М.: Институт Дальнего Востока РАН,2000. 268 с.
- Монголия в документах Коминтерна (1919-1934) (под ред. Б.В. Базарова). 2012. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 480 с
- Рощин С.К. 1997. Об идейных основах политики национальных демократов Монголии (1926-1928 гг.). -Материалы VII Международного конгресса монголоведов. Улан-Батор, август 1997 г.: доклады российской делегации. М.: РАН. С. 59-64
- Монгол ардын хувьсгалт намын нэгдугээр их хурал (1921 оны гуравдугаар сарын 1-3. Ундсэн баримт бичгууд) . 1971. Уланбаатар. 217 с