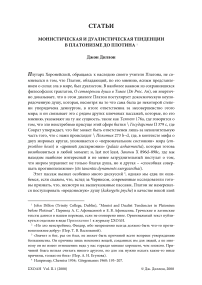Монистическая и дуалистическая тенденции в платонизме до плотина
Автор: Диллон Джон
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья Джона Диллона (Тринити колледж, Дублин) посвящена интересной странице в истории приключения идей. В ней прослеживается путь, проделанный метафизикой платонического толка от «умеренного монизма» Платона и Древней Академии, через дуализм Плутарха и Нумения, к монистической позиции Плотина. Статья опубликована в первом томе журнала.
Монизм, дуализм, древняя академия, средний платонизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147103252
IDR: 147103252
Текст научной статьи Монистическая и дуалистическая тенденции в платонизме до плотина
П лутарх Херонейский, обращаясь к наследию своего учителя Платона, не сомневался в том, что Платон, обладающий, по его мнению, ясным представлением о силах зла в мире, был дуалистом. В наиболее важном из сохранившихся философских трактатов, О сотворении души в Тимее ( De Proc. An ), он энергично доказывает, что в этом диалоге Платон постулирует докосмическую неупорядоченную душу, которая, несмотря на то что сама была до некоторой степени упорядочена демиургом, в итоге ответственна за несовершенство этого мира; и он связывает это с рядом других ключевых пассажей, которые, по его мнению, указывают на ту же сущность, такие как Теэтет 176а, где говорится о том, что зло неистребимо присуще этой сфере бытия 2 ; Государство II 379 с, где Сократ утверждает, что бог может быть ответственен лишь за незначительную часть того, что с нами происходит 3 ; Политик 273 b–d, где, в контексте мифа о двух мировых кругах, упоминается о «первоначальном состоянии» мира ( em-prosthen hexis ) и «древней дисгармонии» ( palaia anharmostia ), которая готова возобновиться в любой момент; и, last not least, Законы X 896d–898c, где мы находим наиболее интересный и не менее затруднительный постулат о том, что миром управляет не только благая душа, но и другая – «способная совершать противоположное» ( tēs tanantia dynamenēs exergazesthai ).
Этот пассаж вызвал особенно много дискуссий 4 , однако мы едва ли ошибемся, если скажем, что, вслед за Чернисом, современные исследователи готовы признать, что, несмотря на вышеуказанные пассажи, Платон не намеревался постулировать «вредоносную» душу ( kakergetis psyche ) в качестве некой злой
силы, реально существующей в мире и противодействующей богу на космическом уровне. Однако если это действительно так, то позволительно спросить, что же он имеет в виду в вышеупомянутых местах?
Чтобы получить ясное представление об этом, нам в первую очередь следует обсудить Платоновскую систему первых начал, как она представлена в так называемом «неписаном учении»: Единое и Неопределенную Двоицу 5 . Двоица – или, как Платон в самом деле мог иногда ее называть, «большое-и-малое», – до некоторой степени действительно противоположна Единому, но ее ни в коем случае не следует рассматривать в качестве позитивного злого начала. Скорее она должна рассматриваться лишь как условие бытия этого мира – чего-то отличного от абсолютной и бессодержательной простоты Единого. Независимо от того, понимаем мы сотворение мира демиургом во времени буквально или нет (а я склоняюсь ко второму), роль Вместилища, хотя в Тимее (30а и 52е–53а) оно и изображается Платоном как источник беспорядочного движения, в действительности сводится лишь к минимальной предпосылке, необходимой для объяснения многообразия, присутствующего в «космосе», заслуживающего этого имени; то есть Вместилище представляет собой систему, включающую весь спектр возможных вариантов бытия – даже тех, которые не подходят для нас, и тогда мы говорим о «зле» 6 . Эту оппозицию можно усмотреть и в других упомянутых пассажах, в том числе и в знаменитом месте из десятой книги Законов, где говорится, что душа «противоположной направленности» должна быть тем элементом в мире, который ответственен за многообразие и различие.
Эта оппозиция между двумя началами была именно так понята племянником и преемником Платона Спевсиппом. Свои два начала он назвал Единым и Многим ( plēthos ) и представил отношение между ними следующим образом 7 :
«…следует постулировать два первичных и высших начала, Единое – которое даже не следует называть сущим (on), по причине его простоты и положения в качестве начала всего, ведь начало не может быть тем, началом чего оно является, – и другое начало, Многое, которое способствует разделению (diairesin parekhesthai) и которое, при условии, что мы способны описать его природу, мы бы сравнили с абсолютно текучей и пластичной материей (ap. Iambl. DCMS 4, p. 15, 5 sq. Festa)».
Отметим, что здесь Спевсипп представляет Многое не как активное начало, противоположное Единому, но скорее как его коллегу, призванного помочь в совершении того «разделения», которое, надо понимать, и является причиной разнообразия и индивидуации в мире и которое Единое не смогло бы осуществить в одиночку. Так что Многое является скорее партнером Единого, нежели его оппонентом. В самом деле, в отличие от своего дяди Платона, Спевсипп далее отказывает Единому даже в эпитете «Благо», опасаясь, что это может неоправданно привести к заключению о том, что Многое – это «злое» начало. Каким образом, спрашивает он, нечто злое по существу может желать чего-либо противного собственной природе и погубить себя, помогая сотворить нечто благое по существу, каковым, например, является мир?
Этот сюжет вновь появляется в другом интересном пассаже из Спевсиппа, сохраненном Проклом в его Комментарии на Парменид (VII pp. 38, 32–40 Kli-bansky), где, в неизвестном контексте, Спевсипп как будто предлагает «онтологическую» интерпретацию первых двух гипотез Платоновского Парменида . Согласно этой интерпретации бытие, представленное второй гипотезой, является не более, чем взаимодействием между Единым и Неопределенной Двоицей, или Многим, необходимым для порождения мира отдельных сущностей. Прокл намеренно цитирует его следующим образом, из стратегических соображений относя эту доктрину к числу пифагорейских:
«Принимая, что Единое превыше Бытия и выступает тем источником, из которого возникает Бытие, они [пифагорейцы] отказывали ему даже в статусе начала. И решили, что если Единое предоставить самому себе, мыслимое как отдельное и одинокое, и не прибавить к нему другого элемента 8 , то ничто никогда не возникнет. Поэтому они ввели Неопределенную Двоицу в качестве начала существования».
Несомненно, что Неопределенная Двоица участвует в процесса разделения, который на начальной стадии приводит к порождению ряда натуральных чисел, как об этом говорится в Пармениде 143а–144а, а в конечном счете всего остального. Таким образом, для Спевсиппа в мире существуют два начала, которые не противоположны друг другу; второе, или «материальное» 9, начало дополняет собой первое в качестве посредника в процессе разделения и индивидуации для того, чтобы породить мир. Если в каком-то смысле и можно рассматривать эти два начала как противоположные, то скорее как пассивное и активное, хотя «пассивное» начало все же выступает в качестве посредника в важном космическом процессе.
Итак, Спевсипп выглядит как недвусмысленный монист 10 . Однако не следует закрывать глаза на некоторые дуалистические тенденции у Ксенократа. Как и его предшественники, он принимает пару первых начал, Монаду и Неопределенную Двоицу 11 , которые сначала порождают Число, затем Душу, а затем остальной мир, – все как у Спевсиппа (хотя и с вариациями, которые стали бы для нас ясны, обладай мы большим числом соответствующих работ), так что на этом уровне он не больший дуалист, чем все остальные. Однако он проявляет определенную склонность к дуализму на более низком уровне, принимая своего рода модифицированный дуализм.
Все, что мы знаем главным образом от Плутарха 12, но и не только от него 13, это то, что Ксенократ, в процессе разделения физического мира на три части, отдает подлунный мир в управление «нижнего Зевса», которого можно отождествить с Аидом. Этот Аид кому-то может отдаленно напомнить гностического невежественного или злого Демиурга, но, с другой стороны, он может иметь нечто общее с той сущностью, о которой Плутарх говорит в работе Об Ипсилон в Дельфах (393b–c) и отождествляет ее с Плутоном / Аидом, управляющим подлунным миром. Эта фигура, противоположная трансцендентному божеству, отождествляется здесь не с Зевсом, а с Аполлоном 14, который руководит нашим неустойчивым миром и управляет им в интересах выс- шего божества. Значит, они различаются 15, однако не противопоставляются сколь либо радикальным образом. Все, что мы обнаруживаем здесь, так это различие между первичным и вторичным божеством, причем последнее непосредственно отвечает за множественность, изменчивость и иллюзорность физического, подлунного мира. Наконец, вызывает интерес и то, что немногим ранее в диалоге (388е–389b) Плутарх проводит похожее различие, но в данном случае между Аполлоном и Дионисом – хотя следует помнить, что по крайней мере со времен Гераклита (ср. фр. B 15 DK) фигуры Диониса и Аида странным образом взаимосвязаны. Правда Плутарх нигде не апеллирует к авторитету Ксенократа в этом контексте, но то, что он положил начало разделению между высшим божеством и вторичной сущностью, которая отождествляется с правителем подлунного мира Аидом, остается фактом.
Кроме того, от Плутарха же мы узнаем, что Ксенократ признает злые или враждебные демонические сущности, некие «великие и могучие силы ( physeis ) в атмосфере, злобной и мрачной, которые ликуют на темных жертвоприношениях, и как только получат по жребию, оборачиваются в пустышку» 16 . В действительности, эти сущности нужны Ксенократу для того, чтобы объяснить существование неприятных или непристойных религиозных ритуалов, которые, по его мнению, не пригодны для прославления благости бога или богов, и служат лишь для умиротворения неких злых сил в мире.
Поначалу кажется, что этот взгляд кардинально отличается от Платоновского представления о демонической природе, которая, главным образом, в диалоге Пир 202е, описывается в форме популярных верований, однако это приобретает более глубокое значение, если мы вспомним о «нижнем Зевсе» Ксенократа и свяжем его со странным сообщением Дамаския 17 о том, что Ксенократ понимал слова Сократа в Федоне 62 b о том, что, будучи в смертном теле, мы находимся «как бы под стражей», как ссылку на нашу титаническую природу, которая приобретает свое высшее выражение в Дионисе (eis Dionyson koryphoutai). За этим очень непонятным и коротким сообщением Дамаския скрывается орфическое представление о «греховности» человеческой природы, вырастающее из мифологического рассказа о нашем происхождении из пепла титанов, сожравших Диониса. Прочитав это положение аллегорически и демифологически, в нем можно усмотреть попытку отождествить Диониса и Аида, или «нижнего Зевса», правителя подлунного мира, и таким образом согласовать с пассажем из Об Ипсилон в Дельфах, обсуждавшемся выше. Похоже, что в этом случае перед нами раскрываются те малоизвестные измерения в мировоззрении Ксенократа, которые указывают в направлении модифицированного дуализма. Мысль о том, что наш мир управляется божеством, которое отлично и даже противоположно высшему божеству, относится к числу наиболее живучих из представлений, получивших развитие в первые несколько веков нашей эры.
Я думаю, что мы достигли того предела, до которого доходит дуалистическая тенденция в Древней Академии 18 . Пропустим Новую Академию, поскольку ее представители не придерживались каких-либо убеждений. Дойдя до возрожденного догматизма Антиоха Аскалонского в первом веке нашей эры, мы видим систему, во многом напоминающую стоицизм с его активным и пассивным, или материальным, началами (cf. Cic. Acad. Post. 27 sq.). Материя является субстанцией, «лишенной всякой формы и качеств», так что она не в силах каким-либо образом противиться действию активного принципа. Конечно, мы не знаем всей истории об Антиохе, но в том, что до нас дошло, точно нет никаких признаков дуализма.
То же самое можно сказать и о представителе следующего поколения платоников, Евдоре Александрийском, несмотря на значительное проникновение в его философию неопифагорейских идей. И хотя Евдор перенимает Монаду и Неопределенную Двоицу, он постулирует высшее Единое над этими двумя, предельное основание всякого существования, даже материи. Наверное, Евдор творчески переосмысливает систему, изложенную Платоном в Филебе (26е–30е), где «Причина смешения» постулируется до и превыше Предела и Беспредельного, но и это его нововведение является ясным указанием на монистическую тенденцию.
И только добравшись до Плутарха в первом веке нашей эры, мы действительно встречаемся с бесспорным наступлением дуализма. Мы уже видели, как он заимствовал, а может и развил модифицированный дуализм Ксенократа, но это только часть истории. Наряду с подчиненным подлунным божеством Плутарх постулирует в мире еще более радикальную злую силу 19 . В мифологическом варианте эта сила появляется в его трактате Об Изиде и Осирисе в облике Тифона, или, говоря языком персидской религии, Аримана (Areimanios). Его позиция проясняется в 369 Е:
«И вот почему это древнейшее представление перешло от богословов и законоведов к поэтам и философам 20, не имея творца своего начала, но обладая твердой и непоколебимой убедительностью и распространяясь не только через рассказ и предание, но также через мистерии и обряды жертвоприношения везде – и у греков, и у варваров: не сама по себе колеблется Всеобщность вне разума, закона и управле- ния, не единый Разум правит ею и направляет ее как бы рулем или властными удилами, но так как природа содержит в себе многое, причем в смешении добра и зла, или, как лучше и проще сказать, не имеет в этом мире ничего несмешанного, то не думай, что один хозяин, распределяя явления как питье из двух бочек, жульнически смешивает их для нас 21; напротив: из двух противоположных начал (arkhai) и от двух враждебных сил (dynameis), из которых одна ведет нас направо и по верной дороге, а другая поворачивает вспять и уводит в сторону, произошла сложная жизнь и мир, если не весь, то этот, земной и подлунный, неоднородный, пестрый и подверженный всяким переменам 22. И если ничто не возникает без причины, а добро не могло бы содержать в себе причину зла, то природа должна иметь особое начало и особый источник как для добра, так и для зла» (пер. Н. И. Трухиной).
Эти две «противоположные силы», структурированные как два круга души в Тимее 36b–d, представлены здесь создающими некое напряжение противоположностей, в силу которого мир продолжает свое существование. В трактате Об упадке оракулов 428 F сл. именно Неопределенная Двоица выполняет роль «злого» начала, и это показывает, насколько отличаются представления Плутарха от взглядов Платона или Спевсиппа.
«Из высших начал, то есть Единого и Неопределенной Двоицы, последнее, будучи элементом, лежащим в основании всякой бесформенности и беспорядка, было названо Беспредельным ( apeiria ); но природа Единого ограничивает и содержит то, что в Беспредельном является пустым, иррациональным и неопределенным, придает этому форму, и делает в некотором роде терпимым и восприимчивым к определению, [что является следующим шагом после демонстрации чувственно воспринимаемых вещей]».
Отметим, что это «элемент, лежащий в основе всякой бесформенности и беспорядка». Число и космос сотворены Единым, «нарезающим» большие или меньшие куски множественности (429 А). «Если покончить с Единым, – говорит Плутарх, – Неопределенная Двоица снова повергнет все в беспорядок, и не станет ритма, границы и меры».
Одним из аспектов Двоицы является беспорядочная Мировая Душа, которую Плутарх понимает как одушевленное докосмическое состояние вещей в Тимее , и которую он приравнивает к «вредоносной» душе из десятой книги Законов . Вот, что он говорит в своем трактате О сотворении души в Тимее (1014 B):
«Вещи творятся не из несущего, а скорее из того, что находится в некрасивом и незавершенном виде, как, например, дом, одеяние или статуя. Ведь беспорядком (akosmia) может быть названо то состояние, которое предшествует сотворению упорядоченного мира (kosmos); этот беспорядок не был чем-то бестелесным, непод- вижным или неодушевленным, но обладал бесформенной и нестабильной телесной природой, а также движущей силой (to kinetikōn), неистовой и неразумной. Таково было нескладное состояние души (anarmostia psychēs) 23, все еще лишенной разума (logos)».
Следовательно, неупорядоченный элемент, который Платон в Тимее (48а, 56с, 68е) называет Необходимостью ( anankē ), не является чем-то просто негативным и безликим, вроде материи, но должен рассматриваться как позитивная сила, беспорядочная и «вредоносная» душа. Но даже эта сущность готова стать упорядоченной Демиургом, и даже явно желать этого, как в случае Исиды ( Об Исиде и Осирисе ). И все же, как я уже говорил ранее, за ее спиной в системе Плутарха, похоже, притаилась еще одна абсолютно злая сила, и в этом трудно не увидеть определенных влияний персидской религии 24 .
После всего сказанного может показаться, что дух дуализма витает в атмосфере второго века нашей эры. Позже в этом столетии неопифагореец Нуме-ний из Апамеи зарекомендовал себя в качестве пропагандиста пифагореизма в версии, более дуалистической по сравнению с той, которая вырисовывается из сообщения автора первого века до нашей эры Александра Полигистора ( ap. Diogenes Laertius, VIII 24–33) и согласно которой Двоица подлежит Монаде как «вещество», то есть по существу монистической системой, вероятно представляющей собой раннюю стадию развития пифагорейской мысли. Непосредственные предшественники Нумения, пишущие в рамках той же традиции, Модерат из Гадеса и Никомах из Геразы, не раскрывают своих карт в вопросе о взаимоотношениях Монады и Диады, однако, привлекая сохранившиеся фрагменты, можно сказать, что они занимают относительно монистическую позицию. Напротив, во фрагменте о природе материи, сохраненном для нас Калкидием 25 , Нумений предстает как убежденный дуалист. Подобно Плутарху, он отождествляет ее с Неопределенной Двоицей и вредоносной душой, и, похоже, критикует тех пифагорейцев (возможно, включая и Модерата), которые считают, что
«неопределенная и безмерная (indeterminatam et immensam) Двоица была произведена Монадой, как будто эта Монада, отступив от своей природы, допустила появление Двоицы, – что абсурдно, ибо тогда то, что было, Монада, перестало бы существовать, а то, чего не было, Двоица, стала бы чем-то сущим (subsisteret), и материя произошла бы от бога, а неопределенная и безмерная двойственность от единства».
Далее (строки 33 сл.) он продолжает описывать материю как текучую и лишенную качеств, но все же позитивно злую силу, критикуя при этом стоиков за то, что они постулируют ее в качестве «безразличной» природы, «средней» между плохим и хорошим. Он говорит, что для Платона «безразлично то, что состоит из формы и материи (ex specie silvaque)», а не сама материя – и, подобно Плутарху, ссылается на Платоновскую доктрину, изложенную в десятой книге Законов .
Предложенная Нумением форма дуализма в равной мере хорошо подходит и для описания сотворения индивидуального человеческого существа. Наша низшая, неразумная душа происходит от злой, материальной души космоса, и здесь Нумений явно пошел дальше других платоников, постулируя в нас отдельную душу, исходящую (emanating) от материи и, вероятно, наделенную собственными «злыми» способностями. Сообщая об особой доктрине Нуме-ния, Порфирий характеризует эту душу как неразумную ( alogos ), но, по всей видимости, он использует этот термин несколько небрежно, по контрасту с разумной душой, нисходящей сверху 26 . Эта вторая душа – отличительный дуалистический элемент в системе Нумения – напоминает высказывание Св. Павла (например, Рим . 7: 23; 8: 7–8) о «законе греховном, находящемся в членах моих», что борется против духа, источника психической энергии, не столько неразумной, сколько извращенной. Это сообщение можно также соотнести с высказыванием Оригена в четвертой главе третьей книги его трактата О началах ( De principiis , III 4), где он обсуждает постулат о том, что внутри нас находится не двухчастная или трехчастная Платоновская душа, но две отдельные души. Непосредственной мишенью здесь были разного рода гностики (поскольку они цитируют Писание – особенно Св. Павла), но Ориген хорошо знал сочинения Нумения и мог иметь в виду также и его. В любом случае, здесь мы имеем дело с перекрестным оплодотворением между Нумением и гностической традицией.
Подведем итоги. Если оставить в стороне Аммония Саккаса, о котором нам слишком мало известно, то видно, что к концу второго столетия в унаследованном Плотином платонизме ясно наметилась дуалистическая тенденция, причем ее сторонники, в особенности Плутарх, отстаивали свою позицию, опираясь на слова самого Платона. Правда, с моей точки зрения и вопреки попыткам доказать обратное, сам Платон был «умеренным монистом». Иными словами, в полной мере осознавая степень несовершенства этого мира и наличие зла в нем, и признавая их неискоренимость, он все же ни в коем случае не переставал верить в уравновешивающую силу Блага, или Единого. Все, что у нас есть, – это некая негативная сила, будь то Неопределенная Двоица, неупо- рядоченная Мировая Душа или Вместилище, – определенного рода неизбежное условие существования самого мира, которая, внося разнообразие в этот мир, в качестве побочного результата порождает и различные несовершенства. Как мы видели, именно этот сценарий оправдывает слова последователя Платона Гермодора, утверждавшего, что он признает лишь один первый принцип, и именно к этому типу монизма, возможно даже в более выраженной форме, возвращается Плотин.
Список литературы Монистическая и дуалистическая тенденции в платонизме до плотина
- Афонасин Е. В., Диллон Дж., Кузнецова А. С. (2007) «Нумений из Апамеи. Фрагменты и свидетельства», ΣΧΟΛΗ 1 (2007) 58-134
- Диллон Дж. (2002) Средние платоники, 80 г. до н. э. -220 г. н. э. (Санкт-Петербург), перевод Dillon 1996
- Диллон Дж. (2005) Наследники Платона. Исследование истории Древней Академии, 347-274 до н. э. (Санкт-Петербург), перевод Dillon 2003
- Cherniss H. (1954) "The Sources of Evil According to Plato", Proceedings of the American Philosophical Society, 98
- Dillon J. (1984) "Speusippus in Iamblichus", Phronesis 29, 325-32 (repr. in Dillon 1991)
- Dillon J. (1986) "Xenocrates' Metaphysics: Fr. 15 (Heinze) Re-examined", Ancient Philosophy 5, 47-52 (repr. in Dillon 1991)
- Dillon J. (1991) The Golden Chain. Studies in the Development of Platonism and Christianity (Aldershot)
- Dillon J. (1996) The Middle Platonists, B.C. 80 to 220 A.D. (Ithaca, N.Y.)
- Dillon J. (2000) "Plutarch on God", D. Frede and A. Laks (eds.), Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (Leiden) 223-238
- Dillon J. (2003) The Heirs of Plato. A Study of the Old Academy, 347-274 B.C. (Oxford)
- Görgemanns H. (1960) Beiträge zur Interpretation von Platons Nomoi (München)
- Merlan P. (1960) From Platonism to Neoplatonism (The Hague)