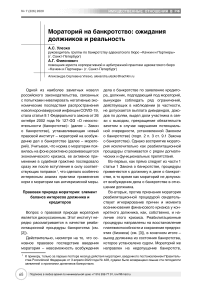Мораторий на банкротство: ожидания должников и реальность
Автор: Улезко Александра Сергеевна, Филонович А.Г.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 7 (226), 2020 года.
Бесплатный доступ
Авторы сравнивают мораторий на возбуждение дел о банкротстве со схожими институтами отечественного и иностранного права. Выявляют и анализируют основные недостатки российских норм о моратории и предоставляемые должнику «мораторными правилами» преимущества. Приходят к выводу о необходимости усовершенствования критерия определения категории должников, на которых распространяется мораторий.
Мораторий на банкротство, мораторные правила, судебная рассрочка, мораторий как антикризисная мера, мораторий как мера по предупреждение банкротства, мораторный должник
Короткий адрес: https://sciup.org/170173154
IDR: 170173154
Текст научной статьи Мораторий на банкротство: ожидания должников и реальность
Одной из наиболее заметных новелл российского законодательства, связанных с попытками нивелировать негативные экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, стала статья 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), устанавливающая новый правовой институт – мораторий на возбуждение дел о банкротстве (далее – мораторий). Учитывая, что норма о моратории появилась на фоне реактивно развивающегося экономического кризиса, ее активное применение в судебной практике последовало сразу же после вступления в силу соответствующих поправок 1, что сделало особенно интересным анализ практики применения норм о моратории как антикризисной меры.
Правовая природа моратория: элемент баланса интересов должника и кредиторов
Вопрос о правовой природе моратория является дискуссионным. Этот институт нередко рассматривается в качестве реабилитационной процедуры банкротства (см. [2]).
Действительно, несмотря на то, что основное правовое последствие введения моратория – невозможность возбуждения дела о банкротстве по заявлению кредитора, должник, подпадающий под мораторий, вынужден соблюдать ряд ограничений, действующих в наблюдении (в частности, не допускается выплата дивидендов, доходов по долям, выдел доли участника в связи с выходом, прекращение обязательств зачетом в случае нарушения потенциальной очередности, установленной Законом о банкротстве) (подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве). Однако восприятие моратория исключительно как реабилитационной процедуры сталкивается с рядом догматических и функциональных препятствий.
Во-первых, как прямо следует из части 1 статьи 1 Закона о банкротстве, процедуры применяются к должнику в деле о банкротстве , в то время как мораторий не допускает возбуждения дела о банкротстве в отношении должника.
Во-вторых, против признания моратория реабилитационной процедурой свидетельствует игнорирование причин и момента возникновения финансового кризиса у конкретного должника, как, собственно, и наличие этого кризиса. Реабилитационные процедуры направлены на восстановление платежеспособности и сохранение предприятия (бизнеса) (см. [3]), в конечном итоге – выход должника из состояния банкротства, которое установлено судом. Мораторий же направлен на недопущение банкротств, связанных с нестабильностью экономики в исключительных случаях, как это указано в пункте 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, посредством воссоздания докризисных условий ведения финансово-хозяйственной деятельности вне зависимости от того, пострадал ли от этого кризиса должник. То есть негативное влияние нестабильности экономики на финансовое состояние отдельных должников при введении моратория предполагается по умолчанию. Таким должникам дается возможность получить защиту от возбуждения дела о банкротстве по заявлениям кредиторов на период кризиса. После отпадения обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, они могут вернуться к обычному режиму деятельности.
В-третьих, решение о введении той или иной процедуры банкротства по общему правилу принимается по ходатайству кредиторов (ст. 74 Закона о банкротстве), в то время как при введении моратория мнение кредиторов не учитывается, какой-либо внешний (судебный или кредиторский) надзор за имуществом должника не устанавливается, информирование кредиторов о состоянии должника не осуществляется, график погашения задолженности не устанавливается.
При этом реабилитационной процедурой вполне обоснованно может быть признана судебная рассрочка (пункты 3.1–3.5 ст. 9.1 Закона о банкротстве), нормы о которой включены в статью 9.1 о моратории. Однако, на наш взгляд, судебная рассрочка является самостоятельным от моратория правовым институтом, поскольку вводит особые правила для должника, в отношении которого уже введена процедура наблюдения. Общей у норм о моратории и о судебной рассрочке является только гипотеза – распространение на должника моратория.
На первый взгляд логичным было бы рассматривать мораторий как частный случай невозможности банкротства, которая не является совершенно новым явлением для российского законодательства. Такое ограничение предусмотрено в отношении отдельных категорий юридических лиц статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Так, например, несостоятельными не могут быть признаны казенные предприятия, учреждения, политические партии, религиозные организации и публично-правовые компании 2. Таким образом, невозможность возбуждения дела о банкротстве уже предусмотрена в законе в отношении ряда лиц и обусловлена их публичной и общественной значимостью или же особенностями финансирования (как, например, в случае с казенными учреждениями).
Однако мораторий и невозможность банкротства имеют ряд нормативных и содержательных различий.
Во-первых, на лиц, которые не могут быть признаны несостоятельными, законодательство о банкротстве не распространяется (ч. 2 ст. 1 Закона о банкротстве), в то время как в отношении «мораторных» должников нормы Закона о банкротстве продолжают действовать, устанавливая лишь особый порядок возбуждения дела о банкротстве: невозможность по общему правилу инициирования банкротство в определенный период времени по заявлению кредиторов (исключением является, например, банкротство ликвидируемого должника, подпадающего под мораторий 3).
Во-вторых, существенно различие в защите интересов кредиторов: еще до всту- пления в правоотношения с контрагентом, который в силу закона не может быть признан банкротом, кредиторы не могут разумно рассчитывать на погашение своих требований в результате введения в отношении должника процедур банкротства 4. Мораторий же имеет временный характер и вводится Правительством Российской Федерации «для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях» (ч. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве). Таким образом, несмотря на схожесть последствий, мораторий и невозможность банкротства имеют как минимум различную политикоправовую природу.
На наш взгляд, мораторий можно определить как меру по предупреждению банкротства . Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона о банкротстве меры по предупреждению банкротства принимают не только руководитель, учредители (участники) должника, но и федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных федеральным законом. Вероятно, такими случаями и являются «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, существенное изменении курса рубля и подобные обстоятельства» (п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве) , при которых Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий. В судебной практике встречается позиция, указывающая на квалификацию моратория в качестве меры по предупреждению банкротства, мотивированная тем, что действие Закона о банкротстве может распространяться только на юридических лиц, признанных банкротами или находящихся на стадиях предупреждения банкротства 5.
При определении правовой природы моратория важным является то, что целью введения этого института в законодательство о банкротстве является не только предупреждение банкротств, связанных с влиянием исключительных ситуаций различного происхождения на экономику, но и соблюдение при этом баланса между интересами кредиторов по получению должного исполнения и предоставлением возможности должнику в период кризиса главным образом получить временно ́ й ресурс, чтобы по окончании кризиса остаться платежеспособным. Законодателем явно допускается презумпция того, что после кризиса финансовое состояние должника станет лучше, чем во время кризиса. Дополнение моратория мерами государственной поддержки бизнеса 6, а также мораторными правилами об изменении или отмене обычных условий гражданско-правовой ответственности и принудительного исполнения позволяет создать для должника условия, при которых он сможет, проявляя разумную степень заботливости и осмотрительности, перепланировать свою финансово-хозяйственную деятельность. Только при соблюдении этого условия мораторий можно рассматривать как разумное ограничение права кредитора на возбуждение дела о банкротстве и одну из мер по предупреждению банкротства, принимаемую органами исполнительной власти в определенных случаях.
Если считать мораторий мерой по предупреждению банкротства, то логично, что в Законе о банкротстве предусмотрено право должника отказаться от распространения на него моратория, если для него очевидны стабильность собственного финансового состояния и отсутствие необходимости обращения к антикризисным мерам. Правила об отказе от моратория служат уникальным
(и, возможно, единственным) примером диспозитивного регулирования в рамках законодательства о банкротстве. При этом, по данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, правом отказаться от моратория воспользовалось более семидесяти «мораторных» должников, в то время как мораторий распространяется на 484 тысячи юридических лиц и 1,5 миллиона индивидуальных предпринимателей [6].
Немаловажно, что идея ограничения возбуждения дел о банкротстве была реализована не только в российском законодательстве. В частности, запрет на инициирование банкротства кредиторами в период кризиса установлен в Испании. При этом если после окончания моратория будут поданы заявления как должника, так и кредитора, то заявление должника будет иметь приоритет вне зависимости от даты подачи [7, ст. 11]. Во Франции до окончания режима чрезвычайной ситуации наличие признаков банкротства будет определяться по состоянию на 12 марта 2020 года, а при отсутствии таких признаков заявление о банкротстве не сможет подать ни кредитор, ни должник [8]. В Германии кредиторы могут подать заявления о банкротстве только при наличии признаков неплатежеспособности у должника по состоянию на 1 марта 2020 года, а должники освобождаются от обязанности подать заявление о признании банкротом до 30 сентября 2020 года (за исключением случаев, когда банкротство не связано с распространением новой коронавирусной инфекции или восстановление платежеспособности невозможно в дальнейшем никаким образом) [9].
Даже краткий обзор норм основных пра-вопорядков романо-германской правовой системы убедительно демонстрирует, что российские поправки о моратории соответствуют европейским тенденциям в регулировании имущественных отношений в условиях кризиса. Однако, несмотря на тождественность идеи ограничения права на признание должника несостоятельным в европейских правопорядках, ее реализация существенно отличается прежде всего учетом причин несостоятельности. Если во Франции и Германии в отношении должника может быть возбуждена процедура банкротства при установлении наличия соответствующих признаков до возникновения кризиса, то в Испании и России процедура банкротства по общему правилу не может быть инициирована кредитором в период действия моратория. Такой порядок, с одной стороны, облегчает работу судов и жизнь должников, освобождая последних от обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве при наличии финансового кризиса, возникшего по любым причинам, с другой стороны, существенно ограничивает права кредиторов и открывает возможности для злоупотреблений должников.
Таким образом, введение моратория как особого условия, при котором реализация права кредитора на получение исполнения посредством процедуры банкротства становится временно невозможной вне зависимости от момента и причин возникновения признаков банкротства, позволило оперативно и с наименьшими издержками защитить пострадавших от кризиса предпринимателей. В этом случае права кредиторов ограничены лишь временно. Если должник не исполнит свои обязательства, то правовой эффект моратория будет аннулирован и все действия должника, связанные с уклонением от удовлетворения требований кредиторов, будут признаны незаконными. Такой механизм, встроенный в контекст остальных мер государственной поддержки, соответствует мировой практике и, на наш взгляд, в целом является разумным.
Недостаточная правовая определенность норм о моратории как препятствие для защиты интересов должника
Несмотря на значительный круг лиц, на которых распространяется мораторий, со- храняется ряд нормативных недостатков, не позволяющих получить защиту всем должникам, которые нуждаются в мерах поддержки.
Как предусмотрено в абзаце 2 пункта 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, в акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны:
-
1) отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД);
-
2) отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория.
Так, в 2020 году Правительство Российской Федерации ввело мораторий в отношении системообразующих и стратегических организаций, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, посредством определения соответствующих кодов основной деятельности по ОКВЭД (см. постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»; далее – Постановление № 428). При этом Правительством предусмотрено создание единого перечня лиц, на которых распространяется мораторий (абз. 2 п. 2 ст. 9.1 Закона о банкротстве), размещаемого на сайте Федеральной налоговой службы [11]. В этом усматривается попытка создать numerus clausus должников, в отноше- нии которых вводится мораторий. Однако в силу несовершенства норм о моратории эта идея осталась не до конца реализованной по ряду причин.
Прежде всего созданию четких и понятных как судам, так и должникам списков «мораторных должников» мешает формальность и несовершенство кода основной деятельности как критерия для распространения моратория на определенных юридических лиц (см., например, [12]). Проблема возникает в первую очередь в тех случаях, когда фактическая основная деятельность компании указана в качестве дополнительного вида деятельности в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В таких ситуациях суды отказывают в применении моратория 7, только в некоторых случаях анализируя значение дополнительных видов деятельности в ответ на соответствующие ссылки должников 8.
Очевидно, предприниматели не могли предвидеть, что с выбором кодов основной деятельности будут связаны какие-либо последствия в условиях кризиса. Несмотря на это, никакой возможности попасть в перечень наиболее пострадавших лиц для таких должников в законе не предусмотрено. В итоге компании не получают меры поддержки по формальным основаниям (см. [13]), хотя фактически осуществляют деятельность, которая может быть заблокирована в период кризиса.
После обнаружения проблемы стало возможным отнести малые предприятия и микропредприятия к наиболее пострадавшим отраслям по коду дополнительных видов деятельности 9. Однако эти уточнения были сделаны в отношении мер государственной поддержки, не связанных с мораторием, и проблема несовершенства системы кодов экономической деятельности через призму банкротства сохранилась. Обнадеживающим в этом свете звучит анонс Министерства экономического развития Российской Федерации о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства возможности уточнить их коды экономической деятельности [14].
Другая проблема связана с распространением моратория на компании, входящие в группы и холдинги системообразующих предприятий. Первоначально список системообразующих организаций устанавливался Правительством Российской Федерации (см. [15]), при этом соответствующий перечень содержал указание на то, что системообразующими являются также компании, входящие в холдинг. С 10 апреля 2020 года в перечень системообразующих организаций включаются организации «с учетом аффилированности в рамках их групповой (холдинговой) структуры (далее – группа компаний)» [16]. Однако российские нормативные акты не дают определения понятию «холдинг» и содержат только понятия «банковский холдинг» [17, ст. 4], «холдинговая компания» и «финансовая холдинговая компания» [18], которые не могут быть применимы в рассматриваемой ситуации.
Показательным стало дело № А 393364/2020 Арбитражного суда Республики Мордовия. Истец, АО «Российский сельскохозяйственный банк», обратился в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество к АО «Волгострой», на которого мораторий с учетом его кода вида основной деятельности не распространяется. Не состоял напрямую ответчик и в иных списках, указанных в Постановлении № 428. Суд установил в отношении спорного имущества обеспечение в виде ареста. Однако компанией АО «Волгострой» был заявлен довод о том, что она входит в холдинг АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», которое включено в перечень системообразующих организаций российской экономики, соответственно, в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве обращение взыскания на заложенное имущество невозможно, следовательно, не может быть и обеспечительных мер в рамках этого судебного процесса. Суд согласился с указанной позицией и отменил меры 10.
В этом случае критерий распространения на должника моратория может быть усовершенствован посредством установления обязанности публиковать состав группы компаний, включенной в перечень системообразующих организаций, и включать компании группы в перечень «мораторных» должников, размещаемый на сайте налоговой службы, как это указано в Постановлении № 428. Учитывая, что проблема возникла практически сразу после введения моратория, возможно, указанные недостатки будут устранены в ближайшее время [19].
Главным критерием в представлении мер поддержки в виде моратория должна быть, на наш взгляд, фактическая нуждаемость должника в этом.
Как отметил Верховный Суд Российской Федерации, мораторий не распространяется на ликвидируемых должников, поскольку «направлен на защиту должников, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для его введения, предоставление им возможности выйти из сложного положения и вернуться к нормальной хозяйственной деятельности» [20, п. 9]. Такой подход вполне логичен и учитывает отсутствие необходимости компании, участники которой приняли решение о прекращении ее деятельности, в мерах поддержки, направленных на сохранение бизнеса.
Указанные разъяснения наравне с применением формальных критериев для распространения моратория спровоцировали формирование различных подходов судов к применению норм о моратории. Основные противоречия сложились относительно определения фактической нуждаемости должника в мерах поддержки в виде моратория.
Например, в одном из дел суд дополнил гипотезу нормы о моратории наличием у должника признаков банкротства и на этом основании отказал в приостановлении исполнительного производства 11. Суд указал, что подлежащая взысканию с должника задолженность возникла до обнаружения новой коронавирусной инфекции и ответчик обладает финансовыми возможностями для исполнения судебного решения. Такие выводы суда являются попыткой реализовать цели моратория, но одновременно с этим вступают в противоречие с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации о том, что обстоятельства и период возникновения задолженности правового значения не имеют, а приостановление исполнительного производства в связи с мораторием и в связи с введением наблюдения имеют различную природу 12.
В то же время суды чаще следуют формальному подходу.
Так, в одном из дел суд возвратил заявление кредитора о банкротстве отсутствующего должника, так как на него распространяется мораторий 13. Однако, несмотря на отсутствие разъяснений о том, что положения о банкротстве отсутствующих должников являются приоритетными по отношению к норме о моратории, отсутствующие должники равным образом с ликвидируе-мыеми не могут вернуться к нормальной хозяйственной деятельности, поскольку отсутствующий должник (исходя из его легального определения, данного в пункте 1 статьи 227 Закона о банкротстве) свою деятельность уже фактически прекратил, вплоть до полного исчезновения, и применение к нему моратория необоснованно. В этом случае судом также не учтена правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации («при рассмотрении дела суд не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы существенно ущемленным» 14), в результате чего право кредитора было ограничено в отсутствие на то правовых оснований.
Различие изложенных подходов требует гармонизации позиций судов, в связи с чем разъяснения Верховного Суда Российской Федерации относительно применения нормы о моратории должны иметь менее казуистичный характер, чтобы суды в условиях активного применения норм о моратории могли точно определять пределы реализации прав должника и кредитора в условиях моратория.
Другим препятствием для защиты бизнеса в условиях кризиса и предоставления им поддержки в виде моратория является нарушение судами процессуальных сроков. Определение о принятии заявления о признании должника банкротом должно быть вынесено судом не позднее чем через пять дней с даты поступления указанного заявления в суд (ч. 2 ст. 42 Закона о банкротстве). На практике этот срок далеко не всегда соблюдается, тем более сложно ожидать его исполнения в условиях оперативного принятия нормы о моратории и существен- ного расширения предмета доказывания при подаче заявления о признании должника банкротом. Так, суды нередко при рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления о признании должника банкротом требуют обосновать, почему, по мнению заявителя, на должника не распространяется мораторий 15.
В практике возникали ситуации, при которых заявление о признании должника банкротом было подано более чем за 5 рабочих дней до введения моратория, но в результате нарушения процессуальных сроков судом дело о банкротстве не было возбуждено, а заявление было возвращено в связи с введением моратория 16. Однако нарушение установленного законом срока принятия процессуального решения по заявлению о признании должника банкротом влияет на возможность реализации кредитором права на возбуждение дела о банкротстве в период моратория. Приведенную позицию суда нельзя признать соответствующей конституционному принципу поддержания доверия граждан к закону и направленной на обеспечение права на судебную защиту – возникает столкновение не только права кредитора на получение удовлетворения посредством признания должника банкротом и права должника на защиту от притязаний кредиторов в период кризиса, но и права кредитора на судопроизводство в разумный срок, которое является неотъемлемой частью гарантированного права на судебную защиту 17 и одним из принци- пов российского арбитражного процесса 18. Эти положения предопределяют особое значение, которое имеют установленные законом сроки совершения процессуальных действий.
Если кредитор предпринял все возможное (в том числе опубликовал соответствующие уведомления, направил документы должнику) и своевременно подал заявление в суд, то у него возникают разумные и правомерные ожидания, что его заявление будет рассмотрено в установленный законом срок, а если нет, то на него не будут возложены неблагоприятные последствия просрочки, допущенной судом, вследствие нарушения права кредитора на разумный срок судопроизводства.
Выгоды и преимущества, которыми может воспользоваться должник в период моратория
Несмотря на изложенные недостатки, мораторий может предоставить должникам, оказавшимся в кризисной ситуации, широкие возможности по нормализации финансово-хозяйственной деятельности. При этом важно, что нормы о моратории не обусловлены совершением должником каких-либо действий по предупреждению банкротства, мораторий лишь создает условия для их совершения. Невозможность возбуждения в период действия моратория процедуры банкротства по заявлению должника и отсутствие обязанности контро-
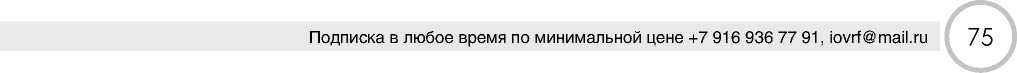
лирующих лиц по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом в случае возникновения признаков неплатежеспособности, недостаточности имущества и иных обстоятельств (п. 1 ст. 9 и подп. 1 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве), дает должнику время для реализации мер, которые требуются от контролирующих лиц в любой кризисный период, даже если мораторий в этот период не введен. Как правило, такой мерой может быть экономически обоснованный план восстановления финансового состояния компании, частью которого может быть изменение условий, срока исполнения обязательств должника (рассрочка, отсрочка и т. д.) 19, увеличение объемов производства (производственная программа по реализации продукции, увеличение выручки за счет продажи сопутствующих товаров и т. д.) 20, привлечение инвестиций (в том числе «спасительные» невозвратные займы, увеличение уставного капитала и т. д.) 21, ведение претензионной работы с дебиторами, включение в договоры с поставщиками предоплаты за реализуемую продукцию 22. В период моратория контролирующими лицами может быть предоставлено компенсационное финансирование, которое является частным случаем санации 23, хотя мораторий не устанавливает специальные правила для установления таких требований контролирующих лиц в деле о банкротстве, если по окончании моратория компания все-таки не избежит банкротства.
Сами «мораторные правила» предоставляют должнику не только время, чтобы справиться с финансовой нестабильностью в компании, но и конкретные меры поддержки в виде, например, недопущения обращения взыскания на заложенное имущество должника (подп. 3 п. 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве), приостановление исполнительных производств (подп. 4 п. 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве), не допускается начисление неустоек и штрафов на просроченные обязательства (подп. 2 п. 2 ст. 9.1; абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве). В обычных, не кризисных, условиях должник рассчитывает, что спрос на рынке будет зависеть от предсказуемых факторов, а его обязательства и обязательства перед ним будут исполняться в установленный срок с определенным риском неисполнения. Вследствие этого обычный предприниматель исходит из того, что при передаче своего имущества в залог на него не будет обращено взыскание, как и на остальное его имущество. Однако непредвидимый финансовый кризис существенно ограничивает деловое усмотрение предпринимателя и негативно сказывается на экономической эффективности принимаемых им решений. Поэтому основные меры, связанные с мораторием, в первую очередь направлены на сохранение ценного имущества должника, использование которого в период действия моратория позволит должнику выстраивать отношения с кредиторами в условиях, приближенных к тем, из которых они исходили при вступлении в правоотношения.
Интересно, что нормы о моратории побудили суды к предоставлению должникам дополнительных, не предусмотренных Законом о банкротстве возможностей для выхода из кризиса. Мораторий служит для судов объективным индикатором особого положения должников и позволяет им ком- пенсировать негативные последствия, возникшие в связи с экономическим кризисом не только в части сохранения приносящего доход имущества, но и ослабления иных имущественных ограничений, которые в обычных условиях были недоступны должнику, а именно:
-
• уменьшение компенсации за нарушение исключительных прав 24, несмотря на то, что мораторий не является критерием, позволяющим уменьшить размер компенсации 25;
-
• отмена обеспечительных мер 26, приостановление исполнения оспариваемого ненормативного акта 27;
-
• отказ в выдаче исполнительного листа (несмотря на то, что такая практика признана Верховным Судом Российской Федерации не соответствующей закону 28, подобные решения имели место при рассмотрении дел судами нижестоящих инстанций 29);
-
• отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, приостановление исполнения решения суда 30.
Особым способом защиты интересов «мораторного» должника, в отношении которого к моменту введения моратория уже введена процедура наблюдения, является судебная рассрочка (пункты 3.1–3.5 ст. 9.1 Закона о банкротстве). По своему правовому смыслу судебная рассрочка представляет собой промежуточный институт между обычным порядком взыскания долга с должника и его банкротством. Основным преимуществом становится прекращение дела о банкротстве, из-за возбуждения которого участники оборота, как правило, не вступают в отношения с должником 31.
Предоставление должнику судебной рассрочки поставлено законодателем в зависимость от многочисленных условий, в том числе от масштаба сокращения доходов должника, характера задолженности (судебная рассрочка невозможна при наличии у должника задолженностей по требованиям, которые относятся к первой и второй очередям) (п. 3.1 ст. 9 Закона о банкротстве). В период действия судебной рассрочки в отношении должника действуют те же ограничения, что и в отношении обычного «мораторного» должника. Кроме того, должник обязан предоставлять информацию о своем имуществе и обязательствах по запросу кредиторов, а также не реже одного раза в квартал отчет об исполнении определения суда о судебной рассрочке (п. 3.4 ст. 9 Закона о банкротстве).
Уникальным для российского банкротного законодательства является то, что судебная рассрочка предоставляется судом по заявлению должника вне зависимости от позиции кредиторов. Единственной возможностью препятствовать введению судебной рассрочки становиться принятие собранием кредиторов решения заключить
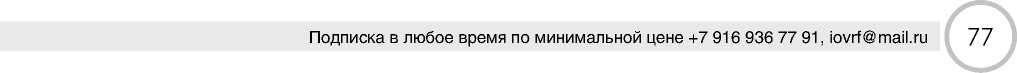
мировое соглашение (подп. 3 п. 3.1 ст. 9.1 Закона о банкротстве).
Однако, учитывая узкий круг лиц, на которых распространяется норма о судебной рассрочке, ее применение на практике, вероятнее всего, будет чрезвычайно редким. Тем не менее при соответствии условий введения судебной рассрочки и фактических обстоятельств дела суды по собственной инициативе предлагают должнику воспользоваться судебной рассрочкой 32, что также свидетельствует об активной «продолжниковой» позиции судов в отношении «мораторных» должников.
Перспективы правоприменительной практики, связанной с мораторием
Стихийно складывающаяся судебная практика не только свидетельствует об активной реализации института моратория с целью защиты должников, но и позволяет выявить многочисленные недостатки норм о моратории, которые должны быть учтены в будущем.
При совершенствовании законодательства важно понимать, что основная цель моратория – сохранение работающего бизнеса в экстренных ситуациях, влияющих на экономику, предоставление возможности пострадавшим от экономического кризиса участникам гражданского оборота с наименьшими потерями пережить кризис. Для ее достижения причина введения моратория и причина возникновения финансовых трудностей компании должны совпадать. Только в этом случае должник может быть способен преодолеть кризис, используя как разумный и добросовестный предприниматель все предоставляемые ему возможности. Если же должник не смог сохранить платежеспособность в обычных экономических условиях, то вероятность, что он сможет сделать это в условиях кризиса, скорее, умозрительна. Для достижения этой цели распространение на должника моратория должно происходить не по умолчанию, а по заявлению должника при условии, что он соответствует критериям лица, которое может воспользоваться мораторием. При этом возможности, которые предоставляет мораторий, должны быть определенными и ясными, а не возникающими в противоречивой судебной практике.
В части формирования критериев для распространения моратория должны быть предусмотрены механизмы, при которых должники, формально не попадающие под условия моратория, могли бы доказать наличие у них фактических оснований для распространения на них моратория. Состав группы компаний, включенной в перечень системообразующих организаций, должен раскрываться в перечне должников, на которых распространяется мораторий.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ *
-
1. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
2. Мораторий не для всех // Коммерсантъ. 2020. 18 июня. URL: =IwAR15vmSHtcUDSGQ6ZNXjVurPcj0s2LeO ST_Kzq8hE8N2mpzEQrNznxeyewA (дата обращения: 21 июня 2020 года).
-
3. Маликов А. Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства) : дис....канд. юрид. наук: 12.0.03. Саратов, 2017. 220 с.
-
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
5. Банкротство для выздоровевших: что несет бизнесу реформа законодательства? // Форбс. URL: https://www . forbes.ru/biznes/400073-bankrotstvo-dlya-
-
32 См., например, определение Арбитражного суда Тюменской области от 11.06.2020 по делу № А 70-3080 / 2020.
-
-
6. 70 компаний и предпринимателей пока отказались от моратория на банкротство – Федресурс. URL: https:// fedresurs.ru/news/233419bf-57b7-47e2-b189-890aa2abe711?attempt=1 (дата обращения: 13 июня 2020 года).
-
7. Королевский декрет от 28 апреля 2020 года № 16/2020. URL: https://www.boe.es/ buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4705-consolida do.pdf (дата обращения: 13 июня 2020 года).
-
8. Ордонанс от 27 марта 2020 года № 2020-341. URL: www.legifrance.gouv.fr/ eli/ordonnance/2020/3/27/JUSX2008202R/jo/ texte (дата обращения: 13 июня 2020 года).
-
9. Закон Федеративной Республики Германия о смягчении последствий пандемии COVID-19 в гражданском, банкротном и уголовно-процессуальном законодательстве от 27 марта 2020 года. URL: https://www . gesetze-im-internet.de/englisch_covinsag/ englisch_covinsag.pdf (дата обращения: 13 июня 2020 года).
-
10. О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников : постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 428. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
11. Федеральная налоговая служба : [сайт]. URL: https://service.nalog.ru/covid (дата обращения: 21 июня 2020 года).
-
12. Никакой поддержки: в Петербурге рискуют закрыться десятки частных школ и детсадов // Деловой Петербург. 2020. 21 мая. URL: https://www.dp.ru/a/2020/05/21/ Nikakoj_podderzhki_v_Pete (дата обращения: 16 июня 2020 года).
-
13. Письмо Федеральной налоговой службы от 20 мая 2020 года № БС-4-11 / 8235@. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
14. Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД. URL:
-
15. О перечне системообразующих организаций : письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 марта 2020 года № 8952-РМ/Д18и. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
16. Критерии и порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики : утверждены протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 10 апреля 2020 года № 7кв. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-тантПлюс».
-
17. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
-
18. О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий : Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 года № 1392. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
19. НСФР просит Минфин разъяснить, могут ли юрлица из холдингов системообразующих компаний воспользоваться мораторием на банкротство. URL: https:// fedresurs.ru/news/967d4825-1551-4b33-bf53-faa1d4765706?fbclid=IwAR3l1euuDoGc k8vQupsRurZtSRlU4hGiiSZvSawyc7vuWSI_ bUxxGqyZNNE&attempt=1 (дата обращения: 21 июня 2020 года).
-
20. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 года.
vyzdorovevshih-chto-neset-biznesu-reforma-zakonodatelstva (дата обращения: 21 июня 2020 года).
ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_ vneslo_v_kabmin_predlozheniya_o_ vozmozhnosti_utochneniya_kompaniyami_ (дата обращения: 21 июня 2020 года).
Список литературы Мораторий на банкротство: ожидания должников и реальность
- О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Мораторий не для всех // Коммерсантъ. 2020. 18 июня. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4381025?from=main_2&fbclid=IwAR15vmSHtcUDSGQ6ZNXjVurPcj0s2LeOST_Kzq8hE8N2mpzEQrNznxeyewA (дата обращения: 21 июня 2020 года).
- Маликов А. Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства): дис.. канд. юрид. наук: 12.0.03. Саратов, 2017. 220 с.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Банкротство для выздоровевших: что несет бизнесу реформа законодательства? // Форбс. URL: https://www.forbes.ru/biznes/400073-bankrotstvo-dlya-vyzdorovevshih-chto-neset-biznesu-reforma-zakonodatelstva (дата обращения: 21 июня 2020 года).