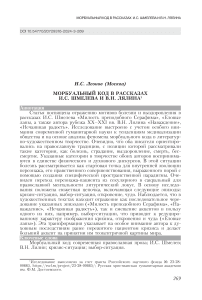Морбуальный код в рассказах И.С. Шмелева и В.Н. Лялина
Автор: Леонов И.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена отражению мотивов болезни и выздоровления в рассказах И.С. Шмелева «Милость преподобного Серафима», «Еловые лапы, а также автора рубежа XX-XXI вв. В.Н. Лялина «Наваждение», «Нечаянная радость». Исследование выстроено с учетом особого внимания современной гуманитарной науки к тенденциям медикализации общества и на основе анализа феномена морбуального кода в литературно-художественном творчестве. Очевидно, что оба писателя ориентировались на православную традицию, с позиции которой рассматривали такие категории, как болезнь, страдание, выздоровление, смерть, бессмертие. Указанные категории в творчестве обоих авторов воспринимаются в единстве физического и духовного дискурсов. В этой ситуации болезнь рассматривается как стартовая точка для внутренней эволюции персонажа, его нравственного совершенствования, выраженного порой с помощью создания специфической пространственной парадигмы. Очевиден переход персонажа-пациента из секулярного в сакральный для православной ментальности литургический локус. В основу исследования положена сюжетная цепочка, включающая следующие эпизоды: кризис-ситуация, выбор-ситуация, откровение, чудо. Наблюдается, что в художественных текстах находит отражение как последовательное чередование указанных эпизодов («Милость преподобного Серафима», «Наваждение», «Нечаянная радость»), так и смещение акцентов в пользу одного из них, например, выбор-ситуации, что приводит к редуцированному характеру изображения кризиса, откровения и чуда («Еловые лапы»). Эта трансформация указывает на особое внимание автора к духовным последствиям ранее пережитого пациентом кризиса и делает больший акцент на принятии им теоцентричной картины мира.
Морбуальный код, современная православная проза, и.с. шмелев, в.н. лялин, кризис-ситуация, выбор-ситуация
Короткий адрес: https://sciup.org/149146475
IDR: 149146475
Текст научной статьи Морбуальный код в рассказах И.С. Шмелева и В.Н. Лялина
Проблема отражения болезненных состояний человека в произведениях художественной словесности в настоящее время приобретает актуальный характер. Внимание к физическим и ментальным нарушениям личности, восприятие человека в парадигме болезнь / выздоровление , выход на проблему всестороннего осмысления здоровья находят отражение в современных филологических, философских, культурологических исследованиях. Л.М. Медведева отмечает актуальный характер феномена болезни для современного гуманитарного знания: «Болезнь в силу ее антропологической составляющей необходимо рассматривать как социокультурную проблему в рамках философского дискурса и историко-культурного контекста с использованием культурологических методов исследования» [Медведева 2013, 6]. О значительном интере- се литературоведческой науки к проблемам медицины свидетельствует Е.Г. Трубецкова. Литературовед рассматривает понятие «морбуальный код», под которым понимает «.формально-содержательное единство, репрезентирующее в художественных текстах образы и (или) метафорические проекции морбуальности. Литература “кодирует” представление о болезни, образы больных, врачей, медицинские «сюжеты» жизни» [Трубецкова 2021, 50]. Актуальность данного феномена для современной культуры исследователь связывает с процессом медикализации общества: «Связь литературы и медицины, рецепция болезни в художественных текстах стали объектом пристального изучения гуманитарных наук последних десятилетий. Это обусловлено несколькими факторами: усилением интереса к институту медицины в связи с поднятыми биоэтикой в конце XX века проблемами взаимодействия врача и пациента; появлением и развитием принципиально новых методов лечения (трансплантологии, заместительной терапии, протезирования органов, воздействия на геном человека), требующих всестороннего осмысления...» [Трубецкова 2022, 3].
Л.М. Медведева выявляет несколько продуктивных направлений в лингвистике и литературоведении относительно изучения болезни: «Это: история медицинских терминов, эпонимы в медицине, медицинский дискурс в общении врач — пациент, изучение метафор, анализ произведений художественной литературы с точки зрения репрезентации медицинского знания и опыта переживания болезни и т.п.» [Медведева 2013, 25].
В настоящем исследовании проблема болезни и выздоровления будет рассмотрена на материале поздних рассказов И. С. Шмелева и В.Н. Лялина, творчество которых ориентировано на православную традицию и соотносится с таким явлением, как православная (духовная, теоцентричная) проза. Данный феномен привлекает внимание литературоведов: Е.А. Белоглазова, С.С. Бойко, Е.Ю. Вихрова, И.А. Казанцева, М.С. Краснякова, Н.В. Пращерук и др. Исследователи обращаются к проблемам генезиса данного явления, обнаруживая его истоки в патериках, жанрах средневековой словесности и литературы нового времени, рассматривают идейно-тематический диапазон, особенности поэтики, способы отражения этических и метафизических векторов православия в художественных текстах. Особая роль принадлежит поиску приемлемой методологической парадигмы. В этом ключе Н.В. Пращерук отмечает необходимость прочтения такого рода произведений «.на четком следовании критериям духовного в оценке достижений и открытий художников, на методологически обоснованном соотнесении (если такова картина мира того или иного художника) со святоотеческой онтологией, гносеологией, аксиологией и антропологией» [Пращерук 2021, 189].
В православной словесности одной из ключевых проблем является проблема времени и вечности. Это отмечает С.С. Бойко: «Время и пространство теоцентричного мира всегда и везде связаны с вечностью. События священной истории наряду с историческими фактами входят в мир героев как актуальные, переживаемые лично» [Бойко 2021, 19]. В этом русле теоцентричная книга часто обращается к мотивам болезни, старости, смерти тела и бессмертия души, а также исцеления телесных и духовных недугов. Подобный мотивный комплекс сближает произведения И.С. Шмелева и В.Н. Лялина.
Поскольку оба писателя воспринимают болезнь и выздоровление с позиции христианской системы ценностей, представляется целесообразным обратиться к богословскому пониманию данных явлений. Епископ Феофан Затворник рассматривал множество причин возникновения болезненных состояний: «Посылает Бог иное в наказание, как эпитимью, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы был здоров; иное, чтобы терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтобы очистить от какой страсти, и для многих других причин» [Болезнь и смерть, 2018, 21].
Священнослужитель видит глубокий смысл и неоспоримое значение телесных недугов для духовного роста человека, его нравственного совершенства. Тесная взаимосвязь физического и духовного состояний подчеркивается и в современных исследованиях: «При анализе морбуального кода важнейшими субкодами становятся соматический и духовный. Не случайно в древних культурах и религиях представлено понимание телесной немощи как духовной ущербности или, наоборот, избранности, а телесного здоровья — как совершенства духовного» [Трубецкова 2021, 49].
Настоящее исследование базируется на произведениях И.С. Шмелева «Милость преподобного Серафима», «Еловые лапы» и писателя рубежа XX—XXI вв. В.Н. Лялина «Наваждение», «Нечаянная радость».
В основу анализа положена сюжетная цепочка, включающая следующие элементы: кризис-ситуация, выбор-ситуация, откровение, чудо. Под кризис-ситуацией понимается болезнь, возникшая внезапно или достигшая своей кульминационной стадии при длительном хроническом течении. При этом внимание уделяется не только физическому, но и духовному состоянию человека: рассматривается его склонность к унынию, апатии, ощущению безнадежности. Выбор-ситуация — сознательное действие человека, испытывающего физические и/или нравственные страдания, направленные на избавление от недуга и обладающее как рациональным, ситуативно оправданным, так и иррациональным характером. Под откровением, в данном случае, понимается особое состояние личности, находясь в котором она получает некий знак, указывающий на грядущее испытание, либо, чаще всего, на преодоление страданий, что соотносится с религиозной трактовкой данного феномена, подразумевающего самораскрытие Бога перед человеком. Этот знак может быть воспринят человеком в окружающей действительности, во сне, или в пограничном состоянии между сном и реальностью. Под чудом понимается как изменение физического состояния человека, вызванное, по мысли автора, воздействием Высших сил, так и духовное преображение самого человека: укрепление в нем веры, появление надежды на помощь Бога.
Часто в произведениях пациент испытывает сильную физическую боль, а также страх перед неизвестностью, вызванный отсутствием полной информации о своем диагнозе, неясностью перспектив, сомнением в выздоровлении. Изображая в рассказе «Милость преподобного Серафима» картину жестоких физических страда- ний, рассказчик делает особый акцент на собственном тяжелом душевном состоянии: «Я был в подавленности великой, я уже и не помышлял, что вернутся когда-нибудь — хотя бы на крайний срок! — дни без болей» [Шмелев 2015, 133]. Подобный внутренний упадок связан с отсутствием перспектив и осознанием неминуемой гибели. Накануне операции больного посещают следующие мысли: «А что дальше? Этого “дальше” для меня уже не существовало: дальше — конец, конечно» [Шмелев 2015, 133].
Выбор-ситуация тяготеет к иррациональному плану, что продиктовано религиозно-христианским мировосприятием писателя. Попытки пациента мыслить рационально, разобраться в методах диагностики и лечения заболевания приводят в тупик. Реплики и комментарии врачей носят крайне лаконичный характер, просмотр рентгеновских снимков приводит рассказчика в большее замешательство. На первый план выходит молитва, которая требует от больного серьезных внутренних усилий, способным привести к определенным духовным изменениям: «Но какая молитва! Не то чтобы я был неверующим, нет: но крепкой веры, прочной духовности не было во мне, скажу со всей прямотой (...). Молился и думал, что все кончено» [Шмелев 2015, 134].
Тем не менее, выбор-ситуация в произведении представлена достаточно рельефно. Связана она с внезапным переходом больного от «формальной» молитвы к искреннему духовному порыву, в котором находит отражение надежда на исцеление и уверенность в чудесных дарованиях святого: «В эту ночь я опять кратко, но, может быть, горячей, чем обычно, мысленно взмолился... именно взмолился, как бы в отчаянии, преподобному Серафиму: “Ты, святой, преподобный Серафим. Можешь! Верую, что ты можешь!...”» [Шмелев 2015, 135].
За выбор-ситуацией в произведении следует откровение, воспринимаемое рассказчиком как некое обнадеживающее указание, сопровождаемое облегчением физического состояния. С точки зрения хронотопа, столкновение пациента с сакральным происходит на границе сна и реальности: «Ночью были небольшие боли, но скоро успокоились, и я заснул. Заснул ли? Не могу сказать уверенно: может быть, это как бы предсонье было» [Шмелев 2015, 135—136]. Последующее за откровением чудо включает как постепенное восстановление физического здоровья рассказчика, так и обновление его духовного состояния, связанное с укреплением веры.
Рассмотренное произведение построено на последовательном чередовании элементов, включающих кризис- и выбор-ситуации, откровение и чудо. Тем не менее в творчестве И.С. Шмелева есть рассказы, в которых те или иные обозначенные звенья представлены редуцированно, а наибольший акцент делается на одном из них. Так, в произведении «Еловые лапы» кризис, откровение и чудо фигурируют достаточно условно, однако же выбор-ситуация и последующие, связанные с ней эпизоды, носят развернутый характер.
Рассказ начинается с загадочного обстоятельства: в музее, где в советские годы находились мощи преподобного Серафима Саровского, появляется необыкновенный старик, облик и поведение которого не вписываются в реалии музейного быта: «.появление старика в ветхом полушубке, в лаптях-онучах, с мешком за спиной, привлекло любопытство музейских и хорошо запомнилось» [Шмелев 2015, 257]. Данный эпизод свидетельствует о совершенном в прошлом выборе: персонаж взял на себя обязательство ежегодно приносить на могилу старца Серафима еловые ели в знак благодарности за исцеление от болезни в детском возрасте. Таким образом, кризис, а также последующее за ним чудо, остаются в прошлом и раскрыты весьма условно. Читатель узнает о них из краткого монолога старика: «Как маменька помирала, наказала: “Помни, Ваня. вымолила я тебя у батюшки Серафима.” — отмолила, стало-ть. “воздвиг тебя батюшка Серафим-угодник...”» [Шмелев 2015, 258]. Следует обратить внимание, что в рассказе не содержится подробного описания болезни и выздоровления персонажа; упоминание об этих событиях носят лаконичный характер. Однако последствие исцеления порождают очередную ситуацию выбора, который совершают одновременно мать и сын: «С той поры всякий год хаживали они на могилку, правили панихидку — “порадовать-поклониться цветочками его с полянки в бору”, а в зимнюю пору еловые лапы в бору ломали и сосновые сучочки с шишечками, на могилку клали — порадовать» [Шмелев 2015, 258].
Таким образом, в качестве ключевых мотивов в морбуальной прозе И.С. Шмелева становятся мотивы кризиса, который выражен комплексом телесных и душевных страданий, испытываемых больным, а также выбора, который делает пациент как на этапе болезни (молитва, обращение к Богу), так и после выздоровления (благодарное почитание святого). Сама болезнь трактуется автором как состояние, призванное привести человека к нравственному обновлению и к принятию им теоцентричной картины мира.
Подобную трактовку темы болезни и выздоровления можно найти у писателя рубежа XX—XXI вв. Валерия Лялина (1927— 2010), творчество которого во многом определило векторы развития современной православной художественной прозы.
Телесный недуг в творчестве писателя, имевшего медицинское образование и богатый практический опыт, как и у И.С. Шмелева, воспринимается в контексте духовного состояния человека. И процесс излечения также, по мысли автора, должен начинаться с изменения душевного состояния. Его герои — молодые, полные сил и надежд на будущее люди, сталкиваются с внезапной болезнью, разделяющей их жизнь на «до» и «после». Этот факт способствует более трагичному восприятию персонажем собственной судьбы и усиливает его психологически острую реакцию на случившееся. Следует отметить, что и у И.С. Шмелева жертвами заболевания становятся люди, имеющие жизненные перспективы: зрелый, но не еще старый рассказчик («Милость преподобного Серафима»), ребенок («Еловые лапы»).
Показательна судьба тридцатилетнего Семена, персонажа рассказа «Наваждение», болезнь которого, по всем прогнозам, должна привести его к смерти. Произведение начинается с сообщения о неожиданной болезни. Жизнь центрального персонажа до ее на- ступления характеризуется предельно лаконично: «Среди полного жизненного благополучия, когда у меня уже был стандартный набор современных жизненных благ, дающих относительное счастье, как-то: квартира, дача, машина и неплохая подруга — меня неожиданно и молниеносно постигла тяжелейшая болезнь крови, она свалила меня на больничную койку, где я, без успеха пролечившись с месяц, пришел в полное помрачение ума и не знал, что мне делать» [Лялин 2004, 95]. Подобный лаконизм оправдан желанием автора полностью сфокусироваться на мотивном комплексе кризис / выбор, а также сосредоточиться на ключевых элементах произведений, в которых морбуальная тема рассматривается в религиозно-христианском контексте: откровение, чудо. Также за пределы авторского внимания остается зарождение недуга, его первые признаки и постепенного развитие. В этом улавливается кардинальное отличие Лялина от Шмелева, который в рассказе «Милость преподобного Серафима» упоминает первые и не столь явные признаки заболевания, проявившиеся задолго до основного кризиса. В этом смысле И.С. Шмелев близок Л.Н. Толстому, который подробно описывает ход зарождения и развитие болезни в повести «Смерть Ивана Ильича».
Само заболевание воспринимается рассказчиком как резкий и насильственный, вызванный некой враждебной волей переход из привычного жизненного пространства и обнаружение себя в чуждом и болезненном мире болезни / смерти , зримым воплощением которого становится больничное отделение: «Какая-то сила, без суда и следствия вырвала меня из жизни и обрекла на гибель. И я вышел из этой клиники, куда не дай Бог кому-нибудь попасть. С пустяками здесь не лежали, и над каждым был приговор смерти, которая была не за горами, а за плечами. Ум мой помрачился от тоски и тревоги, потому что моя собственная кровь восстала на меня и превращалась в яд, убивающий тело» [Лялин 2004, 95].
Своеобразно в рассказе представлено пространство медицинского учреждения. С помощью деталей автор показывает, что больничное отделение, в котором оказывается Семен, отделено от остальных помещений, изолировано, обладает каким-то особенным статусом, что вызывает тревогу у попавших туда людей: «Наше отделение безнадежно больных было небольшое и находилось на три ступеньки ниже общего больничного коридора, спрятавшись за массивной тяжелой дверью со старинной медной ручкой» [Лялин 2004, 95].
Таким образом, очевидно, что в рассказе особую роль приобретает изображение кризис-ситуации, которая показана достаточно четко, рельефно, с привлечением детального изображения внутреннего состояния персонажа, а также с помощью создания специфического морбуального пространства.
Центральным мотивом в произведении является мотив чуда, который понимается не только в контексте физического выздоровления, сколько в плане духовного преображения: Семен приходит к вере, принимает крещение, приносит покаяние. При этом при крещении герой меняет имя, что в православной традиции более свойственно монашескому постригу, который воспринимается как умирание для мира в преддверии воскресения: «Это было очень умно, подумал я, смерть будет искать Семена, а я уже не Семен, а Серафим» [Лялин 2004, 96]. Таким образом, в произведении представлен мотивный комплекс, основанный на кризисе и выборе, к которому герой приходит осознанно, хотя и преодолевая определенные духовные препятствия.
Похожая тематика обнаруживается в рассказе этого же автора «Нечаянная радость», который имеет автобиографическую основу. Молодой врач, работающий в одном из крымских моргов, испытывает комплекс тяжелых соматических и психиатрических симптомов, которые связаны как с последствиями ранее проведенного над ним неудачного медицинского эксперимента, так и с его профессиональными обязанностями. В произведении возникает мотив «заражения смертью», а изображенное в рассказе художественное пространство делится на два бинарных полюса: локус смерти, символом которого становится морг, и противоположное ему жизненное пространство — храм. Исцеление, как духовное, так и телесное приходит благодаря встрече молодого врача с профессором медицины архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким), который проводит краткий осмотр пациента и своим словом укрепляет веру молодого человека. В финале произведения больной совершает переход в сакральное храмовое пространство, которое благоприятно воздействует на его духовное и физическое здоровье. В произведении подробно изображается кризис-ситуация: детально описываются физические и ментальные страдания молодого врача, вызванные в том числе и с воспоминаниями о неудачном медицинском эксперименте. Выбор-ситуация основана на полном доверии к архиепископу Луке как к телесному и духовному врачу. Под откровением следует понимать пророческие слова священнослужителя: «Ты врач и я врач, и скажу тебе откровенно, что в ближайшее время умереть предстоит мне, а не тебе, а ты будешь жить еще долго-долго и может даже доживешь до моего возраста. Поминай меня в молитвах своих. Я много потрудился для Бога и людей, и исполнил меру дел своих, и чувствую, что силы мои уже исчерпаны. А тебе советую оставить работу в морге. Эта работа не для тебя. А возьми-ка ты свою докторскую трубочку и отправляйся в деревню сельским врачом к живым труженикам, кормильцам нашим. Послужи им по-совести» [Лялин 2004, 135].
Исполнение пророчества архиепископа, выраженное в изменении духовного и физического состояния молодого врача, соотносится с категорией «чудо» в данном произведении. На пространственном уровне переход от болезни к выздоровлению показан как обнаружение себя в сакральном храмовом локусе, где центральное место занимает икона Божией Матери «Нечаянная радость»: «Я подошел к крайней большой иконе и прочитал: “Нечаянная Радость”, и сердце мое дрогнуло и радостно забилось долго-долго...» [Лялин 2004, 135].
Следует отметить, что морбуальная тема находит отражение в прозе православных писателей прошлого и современности, однако при этом представлена в своеобразном преломлении, основанном на единстве восприятия категорий физического и духовного. Кризисные состояния приводят человека к совершенному им выбору, за которым следует внутреннее преображение личности, воспринимаемое в контексте христианской традиции.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
-
1. Бойко С.С. Книги для бессмертных. Теоцентричная проза православных писателей XX-XXI вв. М.: РГГУ, 2021. 341 с.
-
2. Болезнь и смерть: По трудам святителя Феофана Затворника. М.: Сибирская благозвонница, 2018. 92 с.
-
3. Лялин В.Н. Нечаянная радость. СПб.: Сатисъ, 2004. 136 с.
-
4. Медведева Л.М. Болезнь в культуре и культура болезни. Волгоград: Вол-гГМУ, 2013. 252 с.
-
5. Пращерук Н.В. Святоотеческая традиция в литературоведческом исследовании // Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения. Екатеринбург: НЧУ ООВО «Миссионерский институт», 2021. С. 279—282.
-
6. Трубецкова. Е.Г. К вопросу о морбуальном коде русской литературы // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 467. С. 47—54.
-
7. Трубецкова Е.Г. Морбуальный код русской литературы XX—XXI вв.: ав-тореф. дис. ... д. филол. н.: 10.01.01. Саратов, 2022. 46 с.
-
8. Шмелев И.С. Повести и рассказы. М.: Никея, 2015. 416 с.
Список литературы Морбуальный код в рассказах И.С. Шмелева и В.Н. Лялина
- Бойко С.С. Книги для бессмертных. Теоцентричная проза православных писателей XX-XXI вв. М.: РГГУ, 2021. 341 с.
- Болезнь и смерть: По трудам святителя Феофана Затворника. М.: Сибирская благозвонница, 2018. 92 с.
- Лялин В.Н. Нечаянная радость. СПб.: Сатисъ, 2004. 136 с.
- Медведева Л.М. Болезнь в культуре и культура болезни. Волгоград: ВолгГМУ, 2013. 252 с. EDN: SBHKET
- Пращерук Н.В. Святоотеческая традиция в литературоведческом исследовании // Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения. Екатеринбург: НЧУ ООВО "Миссионерский институт", 2021. С. 279-282. EDN: DAMMZR
- Трубецкова. Е.Г. К вопросу о морбуальном коде русской литературы // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 467. С. 47-54. EDN: FTFYRM
- Трубецкова Е.Г. Морбуальный код русской литературы ХХ-ХХ1 вв.: автореф. дис. д. филол. н.: 10.01.01. Саратов, 2022. 46 с. EDN: TNJNGX
- Шмелев И.С. Повести и рассказы. М.: Никея, 2015. 416 с.