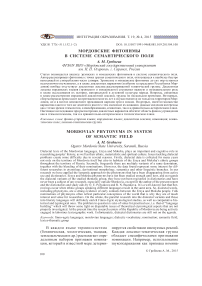Мордовские фитонимы в системе семантического поля
Автор: Гребнева Александра Михайловна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Академическая интеграция
Статья в выпуске: 4 (81), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящается анализу эрзянских и мокшанских фитонимов в системе семантического поля. Автор рассматривает фитонимы с точки зрения семантического поля, относящиеся к наиболее быстро выходящей из употребления части словаря. Эрзянские и мокшанские фитонимы до сих пор остаются недостаточно изученными, а в плане диалектных вариантов (особенно за пределами Республики Мордовия) вообще отсутствует диалектная лексика рассматриваемой тематической группы. Диалектная лексика мордовских языков (эрзянского и мокшанского) составляет важную и познавательную роль в плане исследования их истории, материальной и духовной культуры народа. Вопросы, связанные в плане рассмотрения мордовской диалектной лексики, трудны по нескольким причинам. Во-первых, сбор материала происходит на протяжении многих лет и осуществляется не только на территории Мордовии, но и в местах компактного проживания народов эрзи и мокши. Во-вторых, имеется множество вариантов одного и того же денотата и вместе с тем смешение их названия. Данные сведения интересны как с точки зрения этимологии, словообразования, семантики, так и в сравнительно-историческом плане. Настоящее исследование при рассмотрении диалектных вариантов обогатит область финно-угроведения как в этимологическом, так и в сравнительно-историческом и типологическом плане.
Финно-угорские языки, мордовские языки, диалектная лексика, номинация, семантическое поле, лексико-тематическая группа
Короткий адрес: https://sciup.org/147137131
IDR: 147137131 | УДК: 81''373(=511.152.1+2) | DOI: 10.15507/1991-9468.081.019.201504.100
Текст научной статьи Мордовские фитонимы в системе семантического поля
ции в названиях животных (особенно птиц) не вызывает сомнений, однако исключается в названиях ботанической терминосистемы. В то же время важно подчеркнуть, что некоторые признаки (цвет, форма предмета) обслуживают многие системы терминов. Необходимо отметить, что в мордовской флористической лексике названия травянистых растений подразделяются на две основные группы:
-
1) устойчивые на значительной территории распространения эрзянских и мокшанских говоров с имеющимся небольшим количеством синонимов;
-
2) ограниченные узкими рамками на той и/или иной территории, которая в сознании носителей языка имеет определенные ассоциации с другими реалиями окружающего мира, а также ассоциации, соответствующие родовому признаку (родовое название), что часто является наименованием самого растения, а не каких-то его характерных свойств [2, с. 171]. Например, э. д. s’ukorkaj t’ikše (во многих говорах) «просвирник» (букв. «лепешка-трава»), м. д. kilangən’ t’iše (прп.) “подорожник” (букв.: «дорога-по-трава») и др.
В диалектной лексике подвижность значения наименования в рамках диалектов определяется в первую очередь многообразием признаков, присущих каждому явлению или предмету окружающего мира. При этом общие семантические соотношения не всегда просты и прямолинейны. Ряды наименований одного и того же растения образуют междиалектные семантические поля.
Цель данной статьи – проанализировать лексические единицы, входящие в семантическое поле и относящиеся к флористической лексике, а также выявить ряды наименований, способствующие дальнейшему уточнению понятия лексико-семантической системы мордовских языков в целом. В ее основу положены материалы лексикографических источников и полевые записи автора, осуществлявшиеся с учетом выявления конкретных семантических полей, из- влеченные в основном из мокшанских и эрзянских говоров. Фактический материал был собран как на территории Республики Мордовия, так и за ее пределами в местах компактного проживания народов эрзи и мокши.
Особенностью мордовской флористической системы является то, что многие растения в пределах распространения эрзянского и мокшанского языков имеют целые ряды наименований, как и во многих других языках [1; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12]. Однако имеются и такие случаи, когда одним и тем же словом обозначаются растения, а иногда целые группы растений. Например, в одних диалектах э. л. умарь обозначает «яблоко», а в других – «землянику», «клубнику»; м. л. каньф , э. л. кансть «конопля» – мушка/мушко «кудель».
В своем большинстве они возникли на базе лексики эрзя- и мокша-мордовских языков. Структурная ясность и прозрачность внутренней формы многих из них дает возможность определить те признаки, которые легли в основу их наименования. Мотивированность (исключение составляют названия деревьев и заимствования), обуславливающая в той или иной мере позитивность эрзянской и мокшанской ботанической терминосистемы в целом, – одна из наиболее характерных их особенностей. Данный семантический фактор имеет важное значение для носителей эрзя-и мокша-мордовского языков, которые являются не только пользователями наименований, но и свидетелями или даже участниками их создания.
Эрзянские и мокшанские названия одних и тех же растений в говорах образуют семантическое поле (микрополе). Рассмотрим систему этих полей в мордовских языках. Остановимся на названиях таких растений, которые хорошо известны, обладают ярким отличительным признаком, тесно связаны с бытом, культурой эрзи и мокши.
Карво тикше/кару тише «валериана» имеет диалектные параллели: э. čaj t’ikše (дрк.), s’eroboj (ypc.), s’iraboj (клв.); м. д. polkovon’ d’iše (н. всл.), ver’ d’iše (зп.). Многообразие наименований объясняется тем, что в их основу положены различные семантические признаки. Использование соцветий валерианы в качестве заварки чая привело к формированию устойчивой повторяющейся модели: čaj t’ikše букв. «чай-трава». В названии ver’ d’iše букв. «кровь-трава» воспроизводится семантическая модель «использование в народной медицине» → «наименование». Отвар и настойку этого растения применяют наружно при ожогах, ранениях, кожных заболеваниях. По этой же модели создано его обозначение в некоторых удмуртских говорах: вирту-рым < вир «кровь» + турым «трава» [6, с. 156]. Однако в некоторых эрзянских и мокшанских говорах вместо собственно мордовского наименования употребляется русское слово зверобой.
Следует подчеркнуть, что основным термином в мордовском языковом ареале служит карво тикше/кару тише . Оба компонента имеют лексические соответствия и в других финно-угорских языках. В финно-угристике прочно укрепилось мнение о происхождении слова э. тикше , м. тише «трава», ф. tähkä «колос», мр. тышкä, тÿшка, туска «куст», «волосинки на бородавке», к. тош «борода», уд. туш, тÿшт, тöш «борода», который относится к финно-угорскому фонду лексики [2, с. 171]. По мнению некоторых исследователей пермских языков, данные соответствия являются заимствованиями из тюркских языков [1, с. 42–44].
Вараканьбал/варсиньбря «клевер» в диалектах передается следующими вариантами: э. čavkan’bal (пвд.), čavkan’ t’ikše (клв.), čavkan’br’a (мл.), poc’imka (лбе.), poс’emkaj (дрк.), jaks’t’er’e poc’emka t’ikše (блд., прд., ппл., слщ. ич.), kl’ever (врм., ич.), ker’az’ d’ikše (ард. дбн.); м. čavkan’br’e (м. плн.), varsin’br’e (прз.), varsi pr’ä (крн.), kl’iver (н. вел.), grac’ рг’а (шгв.), karu br’e (сзг.), vars’ijen’bal (смз.), kukuvam bal (грд. д.).
Такая богатая вариантность еще раз подтверждает свободу словообразовательного моделирования в говорах. В данном ряду имеются слова, семантическая основа которых прозрачна.
Например, в э. poс’emkaj , poc’imka воспроизводится модель «свойство, воспринимаемое на вкус» → «наименование». Если формальная сторона этимологии имеет наглядные обоснования (э. поце- «сосать», «высасывать»), то и с точки зрения развития значения она вполне объяснима: в данном случае отражается признак «сладкий», «нечто сладкое».
В некоторых говорах poc’emkaj осложняется дополнительным определительным элементом, образующим новую семантическую модель «окраска соцветия» → «наименование»: jaks’t’er’ pr’a poc’imka t’ikše «красная голова-со-сания трава». Для группы наименований, в которую входят слова э. чавка «галка», варака/варси «ворона», м. граць «грач», типична модель «название птицы» → «наименование»: čavkan’ t’ikše букв. «галки трава».
Эта смысловая схема представлена многочисленными примерами, причем преобладают формы со словом пря «голова», «головка»: э. čavkan’br’a , м. čavkan’br’e букв. «галки голова». В них передается сходство соцветия в виде шаровидной головки с головой птицы. Схема характерна и для коми языка: сизвур турун «клевер», букв. «трава-голова дятла» [8, с. 146]. В наименовании вараканьбал/варсиеньбал букв. «вороны кусок (пища)» прослеживается указание на съедобность растения. Составные элементы слова взяты из финно-угорского фонда слов. Корневая морфема вар- находит свои соответствия: ф. varis , эст. vares , мр. вараш , в. varju «ворона». Мордовский элемент пал в значении «кусок» также имеет параллели: ф., эст. pala , мр. пулдом , уд. палэс , к. палок , в. falat «кусок», «половина» [7].
Дурак тикше/дурак тише «белена», «дурман» также имеет диалектные синонимические варианты: э. durak mako (шгр.), durak baban’ t’ikše (слщ. ич.), ovton’ bešt’e (ич.), d’ikoj mako (алв.), sarazon’ guloftoma (клс); м. dušman d’iše (дрк. тр., пнк. пнз.), päl’as pin’en’ d’iše (н. тлк.), tapaf t’iše (н. лпв.). Определительные компоненты дурак, дикой, душман, указывают на дикое, ненастоящее, несъедобное растение, при употреблении вызывающее одурманивание.
Выделим следующие семантические модели:
-
1) «непригодность для пищи» → «наименование»: durak mako букв. «дурак-мак», dušman d’iše букв. «враг-трава». Данная модель наиболее продуктивна;
-
2) «ядовитость (одурманивание)» → «наименование» э. sarazon’ guloftoma букв. «курицы умерщвление», tapaf t’iše «спутывающая трава»;
-
3) «боязнь употребления» → «наименование»: päl’as pin’en’ d’iše букв. «трава, вызывающая испуг собаки».
Некоторые модели возникли в результате переноса наименования: ovton’ bešt’e букв. «медвежий орех», baban’ t’ikše букв. «старухи трава», дающего представление о несъедобности растения.
В основном все наименования образованы из двух (реже трех) слов. Эти лексемы возникли в общемордовский период. Для их создания использовались собственно мордовские, русские (мак, дикий, дурак), тюркские (душман) слова.
Наименование козьгалав/козьгалак «конский щавель» широко варьируется в ряде эрзянских и мокшанских говоров: э. koz’gal’ (кр. зрк.), koz’l’ec’ (мл.), koz’lakaj (коз. бел.), koz’golavka (сбв.); м. toz’galat (в. снч.), ozgalak (крн.). Все это тюркские заимствования. В татарском языке есть несколько вариантов сложного слова со значением «щавель» кузгалак [10]. В. И. Алатырев отмечает наличие подобного заимствования и в удмуртском языке: кузькылак (в диалектах кучкылак, кычкылак «щавель») [1, с. 45]. В мордовских говорах это растение носит также названия э. эльде начко (повсеместно), kaške lopa (прд.), kikir’uš (слщ. ич.), šker’ge (дрк., сбн., трс., ард., дбн.), at’akšon’ moramo (блд., ппл.) и др.; м. kudr’av bočka (млч.), kir’hk sumbrav (рбк.), kar’ks t’iše (коз. бел.), el’d’en’ bočka (смз.) и др.
В большинстве говоров общему названию щавеля противопоставлено наименование одного из видов этого растения – «конский щавель». Во многих случаях первым компонентом является слово эльде «кобыла», вторым – начко «сырость», «мокрота», почка «стебель». Семантическая структура данной модели такова: конский щавель встречается на заливных лугах, пастбищах, заброшенных стойбищах. В говорах, где отсутствует образование эльде, используются другие составные слова нередко метафорического характера. В наименовании м. д. kudr’av bočka букв. «курчавый стебель» выражен один из видов щавеля. Kar’ks t’iše букв. «бечевка-трава» – метафора, отражающая особенность прямого ветвистого стебля, напоминающего по внешнему виду бечевку.
Ведьбарсей/ведьбарьхци «водоросль» в эрзянских и мокшанских говорах имеет следующие формы: э. ved’ nulke (дрк., алв.), vatrakšun’ рас’а (блд.), l’agaj lopa (ппл.), l’aguška nar’ad (ич.), nulko (слщ. ич.), piže čekar’ (прд., шгр.), vatrakš lopa (прп.), ved’ən’ d’išə (п. слщ.), nurэn’ (ст. дрк.), ved’ lopš (коз. бел).
Выделим следующие семантические модели:
-
1) «название животного» → «наименование»: э. vatrakšon”bac’a букв. «лягушачий платок», l’agaj lopa букв. «лягушачий лист», l’aguška nar’ad букв. «лягушачий наряд». Все эти фитони-мы соотносятся со скоплениями водорослей на воде, состоящими из слизи и выростов. Под ними часто обитают лягушки, для которых водоросли служат как бы покрытием, платком, нарядом и т. д. Эта модель является весьма сложной и метафоричной;
-
2) «сравнение с другим предметом» → «наименование»: э. ved’bar’c’ej , м. ved’bar’hc’i букв. «вода-шелк». В этом случае первостепенную роль сыграли особенности растения: в основу слов положено сравнение с мягкой поверхностью водорослей, которая в народном сознании связывается с понятием «шелк»;
-
3) «свойство растения» (слизь – нечто скользкое) → «наименование»: ved’ nulke букв. «водяная слизь». Это одно из названий, отражающих наличие в скоплениях водорослей слизи;
-
4) «место произрастания» → «наименование»: м. ved’an’ d’iše букв. «водяная трава».
Название ведьбарсей/ведьбарьхци возникло в глубокой древности и нельзя сказать определенно, появилось оно на почве общемордовского языка или унаследовано от более раннего языкового состояния (так как подобное образование и с тем же значением известно в марийском и удмуртском языках).
Слово складывается из двух разноязычных элементов. Первый – финноугорского происхождения: э. ведь, м. ведь, ф., эст. vesi, мр. вÿд, мн. bum; второй – тюркское заимствование: тат. пурсан, чув. пурсьян. По аналогичной модели и из этих же компонентов образовано соответству- ющее слово в марийском языке – вÿд пур-сын «водоросль», «тина» [4] и удмуртском – вубуртчин «шёлк». В коми языке вторым компонентом выступает слово быдмöг «растение»: вабыдмöг [8].
В данной статье рассмотрена лишь небольшая часть названий растений в эрзянских и мокшанских говорах. Однако и она свидетельствует, что моделирование внутри семантического поля характеризуется достаточно разнообразно. Наличие множества обозначений одного и того же растения объясняется разнообразием признаков представителей флоры, которые носителями говоров воспринимаются как самые важные или яркие и ассоциируются именно с этим растением.
Условные сокращения говоров, языков алв. – говор населенного пункта Алово Атяшевского района Республики Мордовия (РМ); ард. дбн. – н. п. Ардатово Дубенского р-на РМ; блд. – н. п. Болдасево Ичалковско-го р-на РМ; в. – венгерский язык; в. слщ. – н. п. Вадовские Селищи Зубово-Полянского р-на РМ; грд. д. – городищенский диалект Пензенской обл.; дрк. – н. п. Дюрки Атяшев-ского р-на РМ; зп. – н. п. Зубова Поляна Зубово-Полянского р-на РМ; ич. – н. п. Ичалки Ичалковского р-на РМ; к. – коми язык; кбв. – н. п. Кабаево Дубенского р-на РМ; клв. – н. п. Клявлино Клявлинского р-на Самарской обл.; клс. – н. п. Кулясово Атяшевского р-на РМ; коз. бел. – н. п. Козловска Белинского р-на Рензенской обл.; кр. зрк. – н. п. Красная Зорька Кочкуроского р-на РМ; КС – Словарные материалы картотеки филологического факультета Мордовского государственного университета; лбс. – н. п. Лобаски Атяшевского р-на РМ; м. д. – мокшанский диалектный; мл. – н. п. Мокшалей Чамзинского р-на РМ; м. л. – мокшанский литературный язык; млс. – н. п. Мельсетьево Теньгушевского р-на РМ; ммл. – н. п. Мамолаево Ковылкинского р-на РМ; м. плн. – н. п. Мордовская Поляна Зубово-Полян-ского р-на РМ; мр. – марийский язык; н. всл. – н. п. н. п. Новые Выселки Зубово-Полян-ского р-на РМ; н. лпв. – н. п. Новое Лепьево Ковылкинского р-на РМ; н. тлк. – н. п. Новая Толковка Ковылкинского р-на РМ; пвд. – н. п. Поводимово Дубенского р-на РМ; пнк. пнз. – н. п. Понекедовка Шемышейского р-на Пензенской обл.; ппл. – н. п. Папулево Ичалковского р-на РМ; прд. – н. п. Парадеево Ичалковского р-на РМ; прп. – н. п. Парапино Ковылкинского р-на РМ; рбк. – н. п. Рыбкино Ковылкинского р-на РМ; сбн. Н. п. Сабанчеево Атяшевского р-на РМ; с. всл. – н. п. Саввинские Выселки Торбеевского р-на РМ; слщ. – н. п. Селищи Атяшевского р-на РМ; лсщ. ич. – н. п. Селищи Ичалковского р-на РМ; смз. – н. п. Самоз-лейка Ковылкинского р-на РМ; уд. – удмуртский язык; урс. – н. п. Урусово Ардатовского р-на РМ; чкл. – н .п. Чукалы Ардатовского р-на РМ; ф. – финский язык; э. д. – эрзянский диалектный; э. л. – эрзянский литературный язык; эст. – эстонский язык.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
1. Алатырев, В. И. Производные имена с суффиксом -ым/-ем / В. И. Алатырев // Вопросы удмуртского языкознания. – Ижевск : Удмурт. книж. изд-во, 1973. – Вып 2. – С. 28–44.
-
2. Гребнева, А. М. Семантика и диалектная синонимика наименований травянистой флоры мордовских языков / А. М. Гребнева // Сибирский филологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 170–175.
-
3. Ефремов, А. С. Названия растений марийского языка (травянисто-ягодная флора) : автореф. дис. … канд. филол. наук / А. С. Ефремов. – Тарту, 1987. – 17 с.
-
4. Куклин, А. Н. К этимологии некоторых диалектных слов / А. Н. Куклин // Вопросы марийского языка (вопросы грамматики и лексикологии). – Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 1980. – С. 177–182.
-
5. Меркулова, В. А. Очерки по русской народной номенклатуре растений / В. А. Меркулова. – Москва : Наука, 1967. – 257 с.
-
6. Насибуллин, Р. Ш. Некоторые названия флоры в языке закамских удмуртов (материалы) / Р. Ш. Насибуллин // Вопросы удмуртского языкознания. – 1973. – Вып. 2. – С. 152–162.
-
7. Основы финно-угорского языкознания : Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. – Москва : Наука, 1974. – 412 с.
-
8. Ракин, А. Н. Флористическая терминология коми языка (этимологический анализ) / А. Н. Ракин // Вопросы лексикологии коми языка. Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар : Сыкт. кн. изд-во, 1979. – С. 129–164.
-
9. Саберова, Г. Г. Названия растений в татарском литературном языке / Г. Г. Саберова. – Казань : ИЯЛЯ им. Г. Ибрагимова АН РТ. – 1996. – 129 с.
-
10. Саберова, Г. Г. Татарско-русско-латинский словарь названий растений / Г. Г. Саберова. – Казань : Фикер, 2002. – 94 с.
-
11. Сюрьялайнен, Ю. Э. Названия растений в финских говорах Ленинградской области : автореф. дис. … канд. филол. наук / Ю. Э. Сюрьялайнен. – Тарту, 1982. – 18 с.
-
12. Цыганкин, Д. В. Этимологиянь валкс / Д. В. Цыганкин, М. В. Мосин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 228 с.
Поступила 05.08.15.
Об авторе :
Список литературы Мордовские фитонимы в системе семантического поля
- Алатырев, В. И. Производные имена с суффиксом -ым/-ем/В. И. Алатырев//Вопросы удмуртского языкознания. -Ижевск: Удмурт. книж. изд-во, 1973. -Вып 2. -С. 28-44.
- Гребнева, А. М. Семантика и диалектная синонимика наименований травянистой флоры мордовских языков/А. М. Гребнева//Сибирский филологический журнал. -2009. -№ 3. -С. 170-175.
- Ефремов, А. С. Названия растений марийского языка (травянисто-ягодная флора): автореф. дис.. канд. филол. наук/А. С. Ефремов. -Тарту, 1987. -17 с.
- Куклин, А. Н. К этимологии некоторых диалектных слов/А. Н. Куклин//Вопросы марийского языка (вопросы грамматики и лексикологии). -Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1980. -С. 177-182.
- Меркулова, В. А. Очерки по русской народной номенклатуре растений/В. А. Меркулова. -Москва: Наука, 1967. -257 с.
- Насибуллин, Р. Ш. Некоторые названия флоры в языке закамских удмуртов (материалы)/Р. Ш. Насибуллин//Вопросы удмуртского языкознания. -1973. -Вып. 2. -С. 152-162.
- Основы финно-угорского языкознания: Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. -Москва: Наука, 1974. -412 с.
- Ракин, А. Н. Флористическая терминология коми языка (этимологический анализ)/А. Н. Ракин//Вопросы лексикологии коми языка. Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. -Сыктывкар: Сыкт. кн. изд-во, 1979. -С. 129-164.
- Саберова, Г. Г. Названия растений в татарском литературном языке/Г. Г. Саберова. -Казань: ИЯЛЯ им. Г. Ибрагимова АН РТ. -1996. -129 с.
- Саберова, Г. Г. Татарско-русско-латинский словарь названий растений/Г. Г. Саберова. -Казань: Фикер, 2002. -94 с.
- Сюрьялайнен, Ю. Э. Названия растений в финских говорах Ленинградской области: автореф. дис.. канд. филол. наук/Ю. Э. Сюрьялайнен. -Тарту, 1982. -18 с.
- Цыганкин, Д. В. Этимологиянь валкс/Д. В. Цыганкин, М. В. Мосин. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. -228 с.