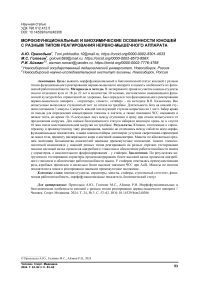Морфофункциональные и биохимические особенности юношей с разным типом реагирования нервно-мышечного аппарата
Автор: Приходько А.Ю., Головин М.С., Айзман Р.И.
Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu
Рубрика: Физиология
Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель: выявить морфофункциональный и биохимический статус юношей с разным типом функционального реагирования нервно-мышечного аппарата и оценить особенности их физической работоспособности. Материалы и методы. В эксперименте приняли участие юноши-студенты очного отделения вуза от 18 до 22 лет в количестве 30 человек, систематично занимающиеся физической культурой без ограничений по здоровью. Был определен тип функционального реагирования нервно-мышечного аппарата – «спринтер», «микст», «стайер» – по методике В.П. Казначеева. Все испытуемые выполняли ступенчатый тест до отказа на тредбане. Длительность бега на каждой ступени составляла 3 минуты. Скорость каждой последующей ступени возрастала на 1 км/ч. Забор крови из пальца для определения концентрации глюкозы и лактата, а также показания ЧСС оценивали в начале теста, во время 10–15-секундных пауз между ступенями и сразу при отказе испытуемого от продолжения нагрузки. Для оценки биохимического статуса забирали венозную кровь до и спустя 10 мин после восстановительной нагрузки на тредбане. Результаты. Юноши, тяготеющие к спринтерскому и промежуточному типу реагирования, значимо не отличались между собой по всем морфофункциональным показателям, однако юноши-стайеры достоверно уступали сверстникам-спринтерам по массе тела, проценту висцерального жира и кистевой динамометрии. Миксты по абсолютным средним значениям большинства показателей занимали промежуточное положение. Анализ глюкозо-лактатной взаимосвязи у юношей разных типов реагирования на разных отрезках тестирования показал весомый вклад процессов анаэробного гликолиза в обеспечение работоспособности мышц у спринтеров, а окислительного фосфолирирования – у стайеров. Заключение. По результатам нагрузочного тестирования спринтеры продемонстрировали более высокий вклад процессов анаэробного гликолиза в обеспечение работоспособности мышц. У стайеров отмечалась преимущественная роль аэробных процессов и несколько более высокие значения ЧСС при АнП. Миксты по многим показателям в покое и реагировании занимали промежуточное положение.
Юноши-студенты, спринтеры, миксты, стайеры, ступенчатый степ-тест, физическая работоспособность, морфофункциональные показатели, биохимический статус
Короткий адрес: https://sciup.org/147247664
IDR: 147247664 | УДК: 796.012.412.5 | DOI: 10.14529/hsm240306
Текст научной статьи Морфофункциональные и биохимические особенности юношей с разным типом реагирования нервно-мышечного аппарата
A.Yu. Prikhodko1, , M.S. Golovin1, , R.I. Aizman1,2, , 1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
Введение. Сегодня известно, что одни и те же физические упражнения могут приводить к разным функциональным изменениям у лиц с разным типом конституции [2, 8], что непосредственно оказывает влияние на уровень физической работоспособности и результативность спортивной деятельности. Это значит, что для достижения высоких результатов в спорте кроме интенсивных тренировок очень важно соответствие типа конституции определенному виду физических нагрузок при наличии нужных гено-фенотипических свойств [9, 13–16]. Одной из конституционально-типологических характеристик человека является тип функционального реагирования нервно-мышечного аппарата: по В.П. Казначееву – «спринтер», «стайер» и «микст» [5]. Однако в доступной литературе мы не встретили комплексной оценки показателей физической работоспособности и биохимического профиля у юношей с разными типами функционального реагирования нервно-мышечного аппарата, что и послужило основой для выполнения настоящего исследования.
Цель: описать морфофункциональный и биохимический статус юношей с разным типом функционального реагирования нервномышечного аппарата и оценить особенности их физической работоспособности.
Материалы и методы. В эксперименте приняли участие юноши-студенты очного отделения вуза от 18 до 22 лет в количестве 30 человек, систематично занимающиеся физической культурой без ограничений по здоровью. Каждый участник исследования подписал добровольное согласие на участие в эксперименте. Был определен тип функционального реагирования нервно-мышечного аппарата – «спринтер», «микст», «стайер» – по методике В.П. Казначеева [5]. Для оценки физической работоспособности на следующем этапе исследования студенты выполняли ступенчатый тест с повышающейся нагрузкой на тредбане, что позволяло повысить эффективность венозного возврата крови, обеспечить оптимальное количество активно работающих мышц и снизить их излишнее напряжение во время выполнения физической работы [3]. Перед началом тестирования была предусмотрена 5-минутная суставная разминка с упражнениями на растяжку. Длительность бега на каждой ступени составляла 3 мин. Скорость первой ступени составила 6 км/ч с последующим повышением каждой ступени на 1 км/ч. Забор крови из пальца проводили после каждой ступени во время 10–15-секундных пауз перехода между ступенями и сразу после отказа, когда испытуемый вставал на неподвижную часть тредбана. Диапазон измерения составлял: для глюкозы – 0,6–50,0 ммоль/л; для лактата – 0,5–30,0 ммоль/л. Вклад лактатного (EaiLa, кДж) механизма энергообеспечения рассчитывали по разнице концентраций лактата (∆La, ммоль/л) в капиллярной крови до и после теста: EaiLa = ∆La · 0,0624 · m/p, где m – масса тела человека, p – плотность тела человека принята за 1 кг/л [7]. Оценку концентрации лактата и глюкозы в капиллярной крови проводили на биохимическом анализаторе Super GL Ambulance производства компании Dr. Muller, Германия. На основании этих данных рассчитывали анаэробный порог (ПАНО или АнП) графическим методом при концентрации лактата 4 ммоль/л [1].
Для оценки биохимического профиля забирали венозную кровь в объеме 5–6 мл, в плазме которой определяли концентрацию следующих веществ: общего белка, альбумина, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, триглицеридов, железа, кальция, магния, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и креатинфосфокиназы – с помощью биохимического анализатора BS-200 E (Mindray, Китай).
Морфологические показатели оценивали по длине (ДТ), массе тела (МТ), обхвату грудной клетки (ОГК), количеству общего и внутреннего жира (биоимпедансным анализатором Omron BF 508, Япония), окружности плеча в покое (ОПП) и максимальном напряжении (ОПН) [11]. Толщину кожно-жировых складок оценивали с помощью механического ка-липерметра (Калифорния, США) в десяти точках тела: под подбородком, на щеке, над грудью, под лопаткой, справа от пупка, на задней поверхности предплечья, над подвздошной костью, на уровне 10-го ребра, над коленом, на икроножной мышце [4].
Рассчитывали индексы Кетле (МТ/ДТ2, кг/м2); Пинье (ИП), характеризующий тип телосложения [ДТ, см – (МТ, кг – ОГК, см)]: ИП – менее 20 – брахиморфное телосложение, ИП = от 21 до 25 – мезоморфное телосложение, ИП более 26 – долихоморфное телосложение; и мышечный индекс (ОПН – ОПП) / ОПП) · 100 %.
Для оценки физической работоспособности определяли суммарную мышечную работу при беге на тредбане. Она складывалась из «работ» на отдельных ступенях: Ai = m · (Vi · ti), где m – масса тела испытуемого, Vi – скорость движения полотна дорожки на каждой ступени, ti – время бега на i-й ступени. Юноши выполняли бег на беговой дорожке Spirit Fitness XT 685 AC (Hasttings, США).
Для выявления максимальной мышечной силы (ММС) использовали метод кистевой динамометрии (пр + лев / 2) с помощью динамометра ДМЭР-120 Деканьютон (Тулинов-ский приборостроительный завод, Россия). Максимальную мышечную выносливость (ММВ) определяли следующим образом. В положении стоя обследуемому предлагали плотно, всей поверхностью пальцев обхватить баллон-датчик, связанный шлангом с гидроманометром, и опустить работающую руку вниз, не прижимая к бедру. В этом положении испытуемый должен был по команде плавно сжать баллон-датчик максимальным усилием. После выявления максимальной величины силы кисти и последующего 2-минутного отдыха обследуемому той же рукой необходимо было сжимать максимально длительное время баллон-датчик так, чтобы стрелка манометра показала величину усилия, равную 75 % от максимальной, после чего включали секундомер и фиксировали время удержания стрелки манометра в этом положении [5]. Дифференциацию на типы осуществляли по отношению максимальной мышечной силы (ММС) к максимальной мышечной выносливости (ММВ). Значения показателя ММС/ММВ менее 1,0 свидетельствуют о преобладании выносливости (тип «стайер»), 2 и более – о преобладании силовых качеств (тип «спринтер»), от 1,0 до 2,0 – промежуточный тип («миксты»).
ЧСС на всех ступенях теста фиксировали по показаниям кардиопередатчика Polar H10 (POLAR Electro, Финляндия). Величину артериального давления определяли механическим тонометром (Pressica Riester, Германия). На основании этих показателей рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ИК), характеризующий соотношение активности симпатической и парасимпатической нервной системы: ИК = [(1 – ДАД / ЧСС) · 100 %], при значениях: от –10 до +10 – нормотонический тип, +10 и более – преобладание ваготонии, –10 и менее – преобладание симпатикотонии [6].
Полученный материал обработан общепринятыми методами математической статистики с использованием программы Statistica 10.0 for Windows и пакета Microsoft Excel 2010. Нормальность распределения была проверена по критерию Шапиро – Уилка. Результаты непараметрических методов обработки представлены в виде медианы (Me) и Q1 – Q3 – нижняя и верхняя квартили, а параметрических – как среднее значение и его стандартное отклонение (M ± q). В случае сравнения связанных выборок статистическую значимость различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок с нормальным распределением и непараметрического критерия Уилкоксона для выборок с отсутствием нормального распределения. При одновременном сравнении несвязанных выборок (3 групп обследуемых) применили дисперсионный анализ ANOVA в случае нормального распределения, а при его отсутствии использовали критерий Краскела – Уоллиса.
Результаты. Из табл. 1 видно, что юноши, тяготеющие к спринтерскому и промежуточному типу, по всем морфофункциональным показателям между собой статистически значимо не отличались. Юноши-стайеры достоверно уступали сверстникам-спринтерам по массе тела, проценту висцерального жира и кистевой динамометрии, а также тенденции по сумме жировых складок и подкожному жиру. По остальным морфофункциональным показателям не было выявлено достоверных отличий. Следует отметить, что спринтеры и миксты по ИП тяготели к мезоморфному типу телосложения, а стайеры – к долихоморфному. Миксты по абсолютным средним значениям большинства показателей занимали промежуточное положение, однако АД в покое и прирост ЧСС после нагрузки имели тенденцию к более высоким значениям по сравнению с обследуемыми других групп, что позволяет думать о небольшом преобладании у них симпатической нервной регуляции (ИК ≤ –10), тогда как у крайних типов функционального реагирования отмечалась нормотония.
Поскольку обследуемые с разными типами функционального реагирования нервномышечного аппарата выполняли практически одинаковую работу, можно было оценить вклад биохимических процессов в реакции организма.
Для выявления мышечного утомления и метаболического стресса использовали наиболее информативные критерии (анализ глю-козо-лактатной взаимосвязи) [12, 17]. Внутри каждой группы юношей разного типа функционального реагирования провели анализ концентрации глюкозы и лактата в капиллярной крови между каждыми двумя последующими ступенями тредбана до 7-й ступени включительно. Выявили, что концентрация глюкозы в капиллярной крови юношей разных типов реагирования значимо не отличалась в динамике выполнения нагрузки и при отказе, однако у юношей, тяготеющих к стайерскому функциональному типу, прирост концентрации глюкозы за время нагрузки был достоверно меньше, чем у средневиков и спринтеров (табл. 2).
Вместе с тем концентрация лактата прирастала с каждой последующей ступенью, начиная с первой у всех юношей. Затем на второй ступени наблюдалось некоторое снижение концентрации лактата у юношей. По результатам третьей ступени, за исключением стайеров, наблюдался прирост лактата. После четвертой ступени включительно и выше наблюдался значимый прирост лактата во всех группах. При этом после 3-й и 6-й ступенями различия в концентрации лактата между спринтерами и стайерами были достоверны.
Таблица 1
Table 1
Морфофункциональные показатели юношей с разным типом функционального реагирования нервно-мышечного аппарата
Morphofunctional measurements in young males with different neuromuscular responses (М ± q; Me (Q1–Q3))
|
Показатель Parameter |
Спринтер Sprinter (n = 10) |
Микст Mixed (n = 10) |
Стайер Stayer (n = 10) |
|
Длина тела / Body length Масса тела / Body mass |
184,2 ± 7,2 81,5 ± 14,3 |
179,2 ± 8,2 72,1 ± 5,8 |
179,1 ± 6,0 68,8 ± 9,4▲ |
|
Индекс Кетле / Quetelet index Индекс Пинье / Pignet index |
23,9 ± 3,4 22,3 (–0,1/30,2) |
22,5 ± 1,6 22,6 (17,4/29,7) |
21,4 ± 2,5 31,9 (16,6/41,3) |
|
Мышечный индекс / Muscular index Индекс Кердо / Kerdo index |
15,8 ± 4,7 –6,45 ± 20,84 |
15,1 ± 5,8 –14,29 ± 23,55 |
16,6 ± 3,6 1,75 ± 20,24 |
|
Кистевая динамометрия, кг Handgrip strength, kg Сумма жировых складок, см Skinfold thickness sum, cm |
53,7 ± 6,0 127,2 ± 54,3 |
48,6 ± 7,0 115,1 ± 45,6 |
44,2 ± 5,8▲ 101,5 ± 26,1 |
|
Потеря массы тела / Weight loss кг / kg % |
0,7 (0,5/0,8) 0,823 (0,586/1,008) |
0,5 (0,4/0,7) 0,797 (0,575/0,973) |
0,5 (0,3/0,8) 0,791 (0,462/1,088) |
|
Подкожный жир, % Subcutaneous tissue, % фон / baseline отказ / exhaustion |
19,6 ± 7,2 *17,5 ± 7,5 |
18,1 ± 5,4 *16,5 ± 5,7 |
14,9 ± 6,2 *13,5 ± 6,3 |
|
Висцеральный жир, % / Visceral fat, % фон / baseline отказ / exhaustion |
5,8 ± 3,4 *5,1 ± 3,2 |
4,0 ± 1,7 3,7 ± 1,7 |
3,2 ± 2,1▲ 3,1 ± 2,0 |
|
САД, мм рт. ст. / SBP, mmHg фон / baseline отказ / exhaustion |
119,5 ± 8,9 *182 ± 8,9 |
123,0 ± 8,9 *183,0 ± 14,2 |
118,5 ± 9,4 *178,5 ± 23,6 |
|
ДАД, мм рт. ст. / DBP, mmHg фон / baseline отказ / exhaustion |
72,5 (65/80) *50 (40/60) |
72,5 (70/80) *40 (30/60) |
70 (65/80) *47,5 (30/50) |
|
ЧСС / HR фон / baseline АнП / anaerobic threshold |
71,0 ± 13,6 170,1 ± 14,6 |
66,1 ± 7,2 173,4 ± 6,7 |
74,5 ± 11,7 179,9 ± 4,3 |
|
Прирост ЧСС / HR increase ЧСС, отказ / HR at exhaustion |
119,4 ± 11,64 195 (188/202) |
125,8 ± 9,5 196 (183/198) |
122,8 ± 15,2 197 (190/202) |
|
Работа суммарная, кг·м Total work, kg·m Ступень отказа Stage at exhaustion |
329193 (238700/394060) 8,5 (7/9) |
298795 (253200/355905) 8 (7/9) |
282406 (234780/354712) 8,5 (7/10) |
Примечание: здесь и в таблицах ниже достоверные отличия относительно: ▲ – спринтеров; ■ – средневиков; ♦ – предыдущей ступени тредбана; * – относительно фона.
Note: differences are significant when compared to: ▲ – sprinters; ■ – mixed; ♦ – previous stage of the test; * – baseline.
Концентрация лактата сразу при отказе и после восстановительной нагрузки и ее прирост были на 30–40 % выше у спринтеров, чем у стайеров, хотя эти различия и не выявили достоверность в связи с большим разбросом показателей при относительно небольшой выборке обследуемых. В целом вклад лактатных механизмов в энергообеспечение мышечной нагрузки показал достоверное преобладание у спринтеров по сравнению со стайерами. Миксты по всем этим показателям занимали промежуточное положение. Таким образом, физическая нагрузка выявила существенно более высокий вклад лактатных механизмов энергообеспечения у спринтеров по сравнению со стайерами.
Таблица 2
Table 2 Функционально-биохимические параметры юношей с разным типом реагирования при одинаковой проделанной работе Functional and biochemical profiles of young males with different neuromuscular responses at similar stages (М ± q; Me (Q1–Q3))
|
Показатель Parameter |
Спринтер Sprinter (n = 10) |
Микст Mixed (n = 10) |
Стайер Stayer (n = 10) |
|
Глюкоза , мМ/л, после разминки (фон) Glucose, after warm-up activities (baseline) |
4,52 ± 0,34 |
4,45 ± 0,31 |
4,54 ± 0,37 |
|
Глюкоза после 1 ст. / Glucose after Stage 1 |
4,48 ± 0,47 |
4,46 ± 0,35 |
4,56 ± 0,42 |
|
Глюкоза 2 ст. / Glucose after Stage 2 |
4,50 ± 0,45 |
4,67 ± 0,48 |
4,55 ± 0,49 |
|
Глюкоза 3 ст. / Glucose after Stage 3 |
4,53 ± 0,34 |
4,59 ± 0,40 |
4,54 ± 0,49 |
|
Глюкоза 4 ст. / Glucose after Stage 4 |
4,50 ± 0,50 |
4,54 ± 0,32 |
4,46 ± 0,51 |
|
Глюкоза 5 ст. / Glucose after Stage 5 |
4,41 ± 0,43 |
4,56 ± 0,34 |
4,56 ± 0,58 |
|
Глюкоза 6 ст. / Glucose after Stage 6 |
4,43 ± 0,38 |
4,59 ± 0,43 |
4,54 ± 0,54 |
|
Глюкоза 7 ст. / Glucose after Stage 7 |
4,44 ± 0,41 |
4,76 ± 0,38 |
4,79 ± 0,53 |
|
Глюкоза, отказ / Glucose, exhaustion |
*5,63 ± 1,07 |
*5,70 ± 0,67 |
4,83 ± 0,90 |
|
Прирост глюкозы / Glucose increase |
1,15 ± 1,01 |
1,24 ± 0,85 |
0,27 ± 0,67■▲ |
|
Глюкоза спустя 10 мин восстановительной нагрузки после отказа Glucose 10 minutes after exhaustion |
*5,24 ± 0,83 |
*5,25 ± 0,77 |
*5,35 ± 0,78 |
|
Лактат , мМ/л, после разминки (фон) Lactate, after warm-up activities (baseline) |
2,07 ± 0,69 |
1,84 ± 0,39 |
2,45 ± 0,62 |
|
Лактат после 1 ст. / Lactate after Stage 1 |
♦2,73 ± 1,05 |
♦2,38 ± 0,57 |
♦3,27 ± 0,87 |
|
Лактат 2 ст. / Lactate after Stage 2 |
♦2,33 ± 0,82 |
2,14 ± 0,46 |
♦1,83 ± 0,33 |
|
Лактат 3 ст. / Lactate after Stage 3 |
♦2,99 ± 0,96 |
♦2,44 ± 0,64 |
2,01 ± 0,28▲ |
|
Лактат 4 ст. / Lactate after Stage 4 |
♦3,55 ± 1,19 |
♦3,06 ± 0,87 |
♦2,65 ± 0,58 |
|
Лактат 5 ст. / Lactate after Stage 5 |
♦4,44 ± 1,65 |
♦3,84 ± 1,15 |
♦3,38 ± 0,83 |
|
Лактат 6 ст. / Lactate after Stage 6 |
♦6,39 ± 2,33 |
♦5,18 ± 1,16 |
♦4,01 ± 1,01▲ |
|
Лактат 7 ст. / Lactate after Stage 7 |
♦7,79 ± 2,88 |
♦6,81 ± 1,69 |
♦6,01 ± 1,47 |
|
Лактат, отказ / Lactate, exhaustion |
*11,26 ± 4,25 |
*10,04 ± 4,11 |
*9,02 ± 3,42 |
|
Прирост лактата / Lactate increase |
9,27 ± 3,27 |
8,29 ± 3,49 |
6,58 ± 3,22 |
|
Лактат спустя 10 мин восстановительной нагрузки после отказа Lactate 10 minutes after exhaustion |
*7,13 ± 3,79 |
*6,87 ± 3,56 |
*5,51 ± 2,81 |
|
Лактатный вклад в энергообеспечение (EaiLa), кДж Lactate contribution to energy metabolism, (EaiLa), kJ |
44,77 ± 16,89 |
34,25 ± 18,04 |
25,11 ± 14,37▲ |
Оценка концентрации ряда ферментов и метаболитов в плазме крови юношей выявила значимые приросты относительно фона креатинина, общего белка и креатинфосфокиназы у всех юношей. При этом у стайеров концентрация мочевины и креатинина после нагрузочного тестирования была выше, чем у спринтеров (табл. 3). Полученные результаты, вероятно, свидетельствуют о частичном разрушении мышечных волокон после нагрузки [10], что привело к повышению концентрации продуктов их распада в крови, возможно, у стайеров в большей степени, чем у представителей других групп.
Таблица 3
Table 3 Биохимические показатели сывороточной крови у юношей с разным типом реагирования при одинаковой проделанной работе Biochemical measurements in young males with different neuromuscular responses under similar conditions
(М ± q; Me (Q1–Q3))
|
Показатель в покое / спустя 10 мин восстановительной нагрузки после отказа Baseline measurements / 10 minutes after exhaustion |
Спринтер Sprinter (n = 10) |
Микст Mixed (n = 10) |
Стайер Stayer (n = 10) |
|
Креатинин, мкмоль/л |
93,8 (81,7/100,8) |
93,6 (87,7/100,4) |
95,4 (87,9/99,6) |
|
Creatinine, µmol/L |
*97,9 (91,2/114,7) |
*96,8 (96,3/107,4) |
*105,3 (95,5/118,4) |
|
Триглицериды, ммоль/л |
0,99 ± 0,33 |
1,65 ± 0,92 |
1,01 ± 0,64 |
|
Triglycerides, mmol/L |
1,00 ± 0,22 |
1,12 ± 0,93 |
1,04 ± 0,53 |
|
Кальций, ммоль/л |
2,4 (2,3/2,4) |
2,4 (2,3/2,4) |
2,4 (2,3/2,4) |
|
Calcium, mmol/L |
2,3 (2,3/2,4) |
2,4 (2,3/2,4) |
2,4 (2,3/2,5) |
|
Мочевина, ммоль/л |
3,5 (3,1/4,9) |
3,9 (3,2/4,8) |
5,2 (3,4/6,1) |
|
Urea, mmol/L |
3,6 (3,2/5,0) |
4,0 (3,6/4,8) |
5,5 (3,7/6,5) ▲ |
|
Мочевая кислота, мкмоль/л |
404 ± 89 |
419 ± 102 |
381 ± 106 |
|
Uric acid, µmol/L |
430 ± 95 |
407 ± 142 |
425 ± 71 |
|
Общий белок, г/л |
82,8 (79,2/85,1) |
83,2 (80,3/85,5) |
82,7 (80,3/84,2) |
|
Total protein, g/L |
*84,5 (80,8/92,5) |
*90,9 (82,5/91,5) |
*84,2 (82,6/93,1) |
|
Альбумин, г/л |
59,71 ± 2,79 |
61,07 ± 1,90 |
59,69 ± 3,81 |
|
Albumin, g/L |
60,43 ± 2,74 |
60,58 ± 1,34 |
62,76 ± 2,95 |
|
Магний, ммоль/л |
0,74 ± 0,11 |
0,73 ± 0,08 |
0,70 ± 0,11 |
|
Magnesium, mmol/L |
0,63 ± 0,10 |
0,71 ± 0,10 |
0,69 ± 0.08 |
|
Креатинфосфокиназа, ед./л |
119,7 (69,3/150,8) |
131,6 (84,1/154,8) |
125,3 (67,4/163,5) |
|
Creatine kinase, IU/L |
*141,1 (88,9/168,6) |
*149,6 (103,7/200,3) |
*132,4 (76,9/206,3) |
|
Железо, мкмоль/л |
20,60 ± 5,44 |
26,30 ± 4,87 |
20,15 ± 9,53 |
|
Iron, µmol/L |
23,95 ± 4,17 |
28,14 ± 4,90 |
22,11 ± 11,76 |
|
Аланинаминотранс-фераза, ед./л |
10,33 ± 5,24 |
9,75 ± 3,16 |
9,58 ± 2,18 |
|
Alanine transaminase, IU/L |
11,24 ± 7,16 |
8,53 ± 2,47 |
10,67 ± 4,69 |
|
Аспартатаминотранс-фераза, ед./л |
20,91 ± 5,08 |
22,17 ± 8,39 |
19,88 ± 4,31 |
|
Aspartate transaminase, IU/L |
22,99 ± 7,01 |
23,56 ± 5,48 |
20,62 ± 4,86 |
Заключение. Проведенное исследование позволило выявить морфологические, функциональные и биохимические особенности у юношей с разным типом функционального реагирования нервно-мышечного аппарата. Спринтеры характеризовались более высоким уровнем кожно-жировых складок на теле, склонностью к мезоморфному типу конституции и достоверно превосходили стайеров по силе рук и массе тела. По результатам нагрузочного тестирования у них наблюдалось более высокое накопление лактата в крови, что свидетельствует о преобладании анаэробного механизма энергообеспечения мышечной деятельности. Стайеры, в отличие от спринтеров, имели меньшую массу тела, процент висцерального жира и общее количество подкожного жира, склонность к долихоморфии, более низкую концентрацию лактата, глюкозы и лактатный вклад в энергообеспечение, а также несколько более высокий анаэробный порог, что в совокупности указывает на большую роль аэробных процессов в мышечной деятельности. Средневики отличились значительным приростом глюкозы после нагрузки, более высоким уровнем АД и приростом ЧСС на нагрузку, тенденцией к симпатическому типу регуляции, хотя по большинству морфофункциональных показателей занимали промежуточное положение, что, вероятно, свидетельствует о примерно одинаковом участии аэробных и анаэробных механизмов в энергообеспечении мышечной деятельности.
Список литературы Морфофункциональные и биохимические особенности юношей с разным типом реагирования нервно-мышечного аппарата
- Баянкина, Д.Е. Некоторые методические и практические аспекты определения анаэробного порога / Д.Е. Баянкина, Ю.А. Князева, И.М. Смокотнина // Изв. Тульского гос. ун-та. Физ. культура. Спорт. – 2021. – № 2. – С. 56–61.
- Головин, М.С. Влияние физических нагрузок на изменения глюкозы и лактата крови спортсменов с разным типом реагирования нервно-мышечного аппарата / М.С. Головин // Физ. культура. Спорт. Туризм. Двигат. рекреация. – 2022. – Т. 7, № 3. – С. 77–81.
- Головин, М.С. Физиологические и биохимические показатели, характеризующие физическую работоспособность при нагрузочном тестировании на тредбане и велоэргометре / М.С. Головин, Р.И. Айзман // Человек. Спорт. Медицина. – 2022. – Т. 22, № 1. – С. 14–21.
- Деревцова, С.Н. Калиперометрия и ультразвуковое исследование в изучении подкожной основы у юношей / С.Н. Деревцова, А.А. Романенко, В.П. Ефремова // Вестник новых мед. технологий. – 2020. – № 3. – С. 69–73.
- Казначеев, В.П. Адаптация и конституция человека / В.П. Казначеев, С.В. Казначеев. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. – 122 с.
- Кальбердин, И.С. Сезонная динамика вегетативных характеристик студентов, занимающихся спортом / И.С. Кальбердин, А.Н. Инюшкин // Соврем. вопросы биомедицины. – 2023. – Т. 7, № 2.
- Особенности энергообеспечения мышечной работы в зависимости от длительности выполнения ступенчато-возрастающей нагрузки у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта / А.Е. Чиков, Д.С. Медведев, С.Н. Чикова, С.В. Колмогоров // Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20, № 4. – С. 62–67.
- Приходько, А.Ю. Анализ физической работоспособности мужчин разных соматотипов при выполнении ступенчатого теста до отказа на тредбане / А.Ю. Приходько, С.Н. Герасимов, Р.И. Айзман // Соврем. вопросы биомедицины. – 2023. – Т. 7, № 4.
- Приходько, А.Ю. Комплексная оценка критериев успешного прогноза спортивных результатов в циклических видах спорта / А.Ю. Приходько, В.М. Климов, Р.И. Айзман // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21, № 3. – С. 137–146.
- Рыбина, И.Л. Физиологические значения активности креатинфосфокиназы у высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта / И.Л. Рыбина // Вестник спортивной науки. – 2015. – № 6. – С. 36–41.
- Bertuccioli, A.A. New strategy for somatotype assessment using bioimpedance analysis in adults / A. Bertuccioli, S.D. Zeppa, S.A. Amatori // F. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. – 2022. – Vol. 62. – № 2. – P. 296–297.
- Burnley, M. Power-duration relationship: Physiology, fatigue, and the limits of human performance / M. Burnley, A.M. Jones // European Journal of Sport Science. – 2018. – Vol. 18, № 1. – Р. 1–12.
- Choudhary, S. Somatotypes of Indian Athletes of Different Sports / S. Choudhary, S. Singh, I. Singh // Online J Health Allied Sci. – 2019. – Vol. 18. – P. 1.
- Gutnik, B. Body physique and dominant somatotype in elite and low-profile athletes with different specializations / B. Gutnik, A. Zuoza, I. Zuoziene // Medicina. – 2015. – Vol. 51. – P. 247.
- Silventoinen, K. Genetics of somatotype and physical fitness in children and adolescents / K. Silventoinen, J. Maia, A. Jelenkovoc // Am J Hum Biol. – 2020. – e23470.
- Skeletal muscle signature of a champion sprint runner / S. Trappe, N. Luden, K. Minchev, U. Raue // J Appl Physiol. –2015. – Vol. 118. – № 12. – P. 1460–1466.
- Sotero, R.C. Blood glucose minimum predicts maximal lactate steady state on running / R.C. Sotero, E. Pardono, R. Landwehr // International Journal of Sports Medicine. –2009. – Vol. 30, № 9. – Р. 643–646.