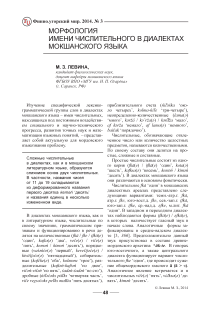Морфология имени числительного в диалектах мокшанского языка
Автор: Левина Мария Захаровна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы словообразования, употребления и распространения форм числительных в диалектах мокшанского языка.
Диалекты и говоры мокшанского языка, территориальное распространение, ареал, имя числительное, морфологические особенности, грамматические признаки
Короткий адрес: https://sciup.org/14723109
IDR: 14723109
Текст научной статьи Морфология имени числительного в диалектах мокшанского языка
Изучение специфической лексикограмматической группы слов в диалектах мокшанского языка – имен числительных, находящихся под постоянным воздействием социального и научно-технического прогресса, развития точных наук и математизации языковых понятий, – представляет собой актуальную для мордовского языкознания проблему.
Сложные числительные в диалектах, как и в мокшанском литературном языке, образуются слиянием основ двух числительных. В частности, названия чисел от 11 до 19 складываются из деформированного названия первого десятка keməń ‘десять’ и названия единиц в несколько измененном виде.
В диалектах мокшанского языка, как и в литературном языке, числительные по своему значению, грамматическим признакам и функционированию в речи делятся на количественные (fkä / fke / ifkä(e) ‘один’, kafta(ə) ‘два’, veťe(ə) / viťe(ə) ‘пять’, keməń / kiməń ‘десять’), порядковые (vaśəńće(ə) ‘первый’, keveťijəće(ə) / kiviťijəće(ə) ‘пятнадцатый’), собирательные (kafćke(ə) ‘оба’, kolmənc ‘трое’), разделительные (kaftəń-kaftəń ‘по двое’, viťəń-viťəń ‘по пять’, śadəń-śadəń ‘по сто’), дробные (ńiľəćəks päľks ‘четвертая часть’, viťe veχsəćəks peľks maRta ‘пять деcятых’), приблизительного счета (ńiľəška ‘около четырех’, kolma-ńiľe ‘три-четыре’), неопределенно-количественные (lama(ə) ‘много’, kəržá / kə´rža(ə) / kər͡dža ‘мало’, af kərža ‘немало’, af lama(ə) ‘немного’, baiťak ‘порядочно’).
Числительные, обозначающие отвлеченное число или количество целостных предметов, называются количественными. По своему составу они делятся на простые, сложные и составные.
Простые числительные состоят из одного корня ( fkä ( е ) / ifkä ( е ) ‘один’, kota ( ə ) ‘шесть’, kafksa ( ə ) ‘восемь’, keməń / kiməń ‘десять’). В диалектах мокшанского языка они различаются в основном фонетически.
Числительное fkä ‘один’ в мокшанских диалектных ареалах представлено следующими вариантами: темн.-атр.г. fkä , атр.г. fke , юго-вост.д. fke , сев.-зап.г. ifkä , юго-зап.г. ifke , ср.-вад.д. əfke , м.лит. fkä ‘один’. В западном и переходном диалектах наблюдаются формы ifkä ( е ) / əfkä ( е ), в которых наличествует гласный звук в начале слова. Аналогичные формы зафиксированы в средне-вадском диалекте [3, 366 ]. Предположительно данный звук присутствовал в составе древнемордовского архетипа * ük-te . В говорах юго-восточного, а также центрального диалекта функционирует вариант числительного fkе ‘один’, где происходит сужение общемордовского гласного ä (ä > э) . Аналогичное явление встречается и в числительных viťe ( ə ) ‘пять’, viJksa ( ə ) ‘девять’, kiməń ‘десять’.
В некоторых диалектных ареалах наблюдается расширение гласных в конце слова, ср.: кр.-синдр.г. ńiľe , veťe , рыбк.-ммл.г. ńiľe , veťe , ст.-шайг.г. ńiľe , veťe / viťe , юго-вост.д. ńiľe , viťe , м.лит. ńiľ̑e ‘четыре’, veť̑e ‘пять’. Это связано с тем, что конечный гласный данных числительных в архетипе был гласным переднего ряда, который довольно хорошо сохранился в родственных языках: эрз. nile , фин. nelja , манс. nile ‘четыре’; эрз. vete , фин. viisi (основа viite- ), мар. vič , vizət ‘пять’ < vite .
В большинстве диалектов числительные kafksa ( ə ) ‘восемь’, veJksa ( ə ) ‘девять’ выступают в виде нескольких фонетических вариантов, обусловленных ареалом распространения: цнтр.д. kafksa ( ə ), veJksa ( ə ) / viJksa ( ə ), юго-вост.д. kafksa , viJksa , viχsa , зап.д. kafksa , viJksa , viχsa , veχsa , м.лит. kafks̑ə ‘восемь’, vеJks̑a ‘девять’. Указанные числительные исторически являются производными, образовавшимися от основ числительных kaft̑a < * kavta , veJksa ( ə ) < * vejkä (ср. эрз. vejke ‘один’).
В темниковско-атюрьевском, рыб-кинско-мамолаевском говорах центрального диалекта числительное komś ‘двадцать’ употребляется в форме koməś , где появляется вставочный гласный, который, по всей видимости, существовал в первичной форме. Вариант koməś образован от ko- – сильно сокращенной и видоизмененной основы числительного kaft̑a ‘два’ и форманта mś , который родствен элементу mys , употребляющемуся в пермских языках в некоторых названиях числительных, ср.: коми-зыр. kõkja-mys ‘восемь’; коми-зыр. õk-mys , удм. uk-mys ‘девять’ [5, 117 ].
В некоторых ареалах центрального, юго-восточного диалектов вместо числительного ťožäń ‘тысяча’ функционирует эквивалент ťišča , заимствованный из русского языка: рыбк.-ммл.г. ťišča , юго-вост.д. ťišča , м.лит. ťožäń , рус. тысяча .
Сложные числительные в диалектах, как и в мокшанском литературном языке, образуются слиянием основ двух числительных. В частности, названия чисел от 11 до 19 складываются из деформиро- ванного названия первого десятка keməń ‘десять’ и названия единиц в несколько измененном виде. При этом в диалектах указанные числительные в первом компоненте имеют элементы ki-, kim-, в которых происходит сужение общемордовского гласного э (э > i):
|
атр.г. |
юго-вост.д. |
рус. |
|
kifkijə |
kifkije |
одиннадцать |
|
kimgaftuvə |
kimgaftuva |
двенадцать |
|
kimgolmuvə |
kimgolmuva |
тринадцать |
|
kimńiľijə |
kimńiľije |
четырнадцать |
|
kiviťijə / |
kiviťije |
пятнадцать |
|
kimviťijə |
||
|
kimgotuvə |
kimgotuva |
шестнадцать |
|
kimźiśəmge |
kimźiśəmge |
семнадцать |
|
kimgafksuvə |
kimgafksuva |
восемнадцать |
|
kiviJksÞjə |
kiviJksÞje |
девятнадцать |
|
ср.-вад.д. |
м.лит. |
рус. |
|
kifkije(ə) |
kefkij̑е |
одиннадцать |
|
kimgaftuva(ə) |
kemgaftuv̑а |
двенадцать |
|
kimgolmuva(ə) |
kemgolmuv̑а |
тринадцать |
|
kimńiľije(ə) |
kemńiľij̑е |
четырнадцать |
|
kiviťije(ə) |
keveťij̑е |
пятнадцать |
|
kimgotuva(ə) |
kemgotuv̑а |
шестнадцать |
|
kimźiśije/ |
kemźiśəmge |
семнадцать |
|
kimśiśije |
||
|
kimgafksuva(ə) |
kimgafksuv̑а |
восемнадцать |
|
kiveχsÞjə(ə) |
keveJksÞj̑е |
девятнадцать |
В говорах центрального и западного диалектов рассматриваемые числительные отличаются от соответствующих форм литературного языка также ударением. Если в мокшанском литературном языке ударение падает на первый слог, то в диалектах – на второй: темн.-атр.г. kemgáftuvə , юго-зап.г. kimgáftuvа , м.лит. kémgaftuv̑ə ‘двенадцать’; темн.-атр.г. kemvéťijə / ke-véťijə , юго-зап.г. kivíťije , м.лит. kéveťij̑е ‘пятнадцать’.
Названия десятков от 30 до 90 представляют собой сложные числительные, образованные от основ двух числительных, одно из которых по отношению к другому является определением. В отдельных диалектных ареалах данные числительные отличаются от соответствующих форм мокшанского литературного языка: определяющим в них выступает первый компонент, в котором суффикс соотносится с суффиксом относительных отыменных прилагательных:
|
атр.г. |
ср.-вад.д. |
рус. |
|
kolməńgiməń |
kolməńgiməń |
тридцать |
|
ńiľəńgiməń |
ńiľəńgiməń |
сорок |
|
viďgiməń |
viďgiməń |
пятьдесят |
|
kafksəńgiməń |
kafksəńgiməń |
восемьдесят |
|
viJksəńgiməń |
veχsəńgiməń |
девяносто |
|
но: |
||
|
kodgiməń |
kodgiməń |
шестьдесят |
|
śiźgiməń |
śiźgiməń |
семьдесят |
|
темяш.д. |
м.лит. |
рус. |
|
kolməńgeməń |
kolməgeməń |
тридцать |
|
ńiľəńgeməń |
ńiľgeməń |
сорок |
|
veďgeməń |
veďgeməń |
пятьдесят |
|
kafksəńgeməń |
kafksəgeməń |
восемьдесят |
|
veJksəńgeməń |
veJksəńgeməń |
девяносто |
|
но: |
||
|
kodgeməń |
kodgeməń |
шестьдесят |
|
śiźgeməń |
śiźgeməń |
семьдесят |
В говорах центрального, западного и переходного диалектов формы приведенных числительных сходны с формами соответствующих эквивалентов эрзянского языка: эрз. kolońgеməń ‘тридцать’, ńiľeńgemeń ‘сорок’, kavksońgemeń ‘восемьдесят’, vejksеńgemeń ‘девяносто’, где первые элементы числительных kolməń- / koloń- , ńiľəń- / ńiľeń- , kafksəń- / kavksoń- , vеJksəń- / viJksəń- / vеjkseń- напоминают видоизмененную форму генитива от числительных kolmа ‘три’, ńiľе ( ə ) ‘четыре’, kafksа ( ə ) ‘восемь’, vеJksа ‘девять’: kolməńgeməń / kolməńgiməń означает ‘трех десять; втроем десять’, ńiľəńgeməń / ńiľəńgiməń – ‘четырех десять; вчетвером десять’, kafksəńgeməń / kafksəńgiməń – ‘восьмером десять’, veJksə-ńgeməń / viJksəńgiməń / veχsəńgiməń – ‘девя-тером десять’.
Определительные отличия имеют и составные числительные, которые представляют собой сочетания простых или простых и сложных числительных.
Весьма интересным в юго-восточном диалекте и в рыбкинско-мамолаевских говорах является образование составных числительных с 21 до 99, в которых последний компонент, называющий единицы, принимает аффиксы -ije / -ijä , -va , -ga / -gä , сохранившие древние характерные черты прола-тива. Реализация выделенных формантов в одном и том же диалекте обусловлена характером основы: -ije / -ijä – после гласных переднего ряда, -va – после заднерядных гласных, -ga / -gä (e) – после согласных:
|
рыбк.-ммл.г. |
зап.д. |
рус. |
|
koməś fkijä |
komś ifkijä(е) |
двадцать один |
|
koməś kaftuva |
komś kaftuva |
двадцать два |
|
kolməńgeməń kolmuva |
kolməńgeməń kolmuva |
тридцать три |
|
ńiľəńgeməń ńiľijä |
ńiľəńgeməń ńiľijä(e) |
сорок четыре |
|
veďgeməń |
veďgeməń veťije / пятьдесят |
|
|
veťijä |
viďgiməń viťije |
пять |
|
рыбк.-ммл.г. |
зап.д. |
рус. |
|
kodgeməń |
kodgeməń |
шестьдесят |
|
kotuva |
kotuva / kodgiməń kotuva |
шесть |
|
śiźgeməń |
śiźgeməń |
семьдесят |
|
śiśəmgä |
śiśije / śiźgiməń śiśije |
семь |
|
kafksəńgeməń |
kafksəńgeməń |
восемьдесят |
|
kafksuva |
kafksuva / kafksəńgiməń kafksuva |
восемь |
|
veJksəńgeməń |
veχsəńgeməń |
девяносто |
|
veJksÞjä |
veχsÞje / viχsəńgiməń viχsÞjä |
девять |
|
юго-вост.д. |
м.лит. |
рус. |
|
komś fkije |
komś fkä |
двадцать один |
|
komś kaftəva |
komś kaft̑a |
двадцать два |
|
kolməgiməń kolmuva |
kolməgeməń kolm̑a |
тридцать три |
|
ńiľgiməń ńiľije |
ńiľgeməń ńiľ̑e |
сорок четыре |
|
viďgiməń |
veďgeməń |
пятьдесят |
|
viťije |
veť̑e |
пять |
|
kodgiməń |
kodgeməń |
шестьдесят |
|
kotuva |
kot̑a |
шесть |
|
śiźgiməń |
śiźgeməń |
семьдесят |
|
śiśəmge |
śiśəm |
семь |
|
kafksəńgiməń |
kafksəgeməń |
восемьдесят |
|
kafksuva |
kafks̑a |
восемь |
|
viJksəńgiməń |
veJksəgeməń |
девяносто |
|
viJksÞje |
veJksa |
девять |
Та же особенность наблюдается и в других говорах, но лишь в пределах от 21 до 29, а начиная с 30 составные числительные употребляются в начальной форме, как и в литературном языке [1, 125 ]:
атр.г.
koməś fkijə koməś kaftuvə koməś kolmuvə koməś ńiľijə koməś viťijə koməś kotuvə koməś śiśəmge
темяш.д.
koməś fkijе koməś kaftuva koməś kolmuva koməś ńiľije koməś veťije koməś kotuva koməś śiśəmge рус.
двадцать один двадцать два двадцать три двадцать четыре двадцать пять двадцать шесть двадцать семь
|
атр.г. |
темяш.д. рус. |
|
koməś kafksuvə |
koməś kafksuva двадцать восемь |
|
koməś viJksÞjə но: |
koməś veJksÞje двадцать девять |
|
kolməńgiməń |
kolməńgeməń тридцать |
|
fke |
fke один |
|
kolməńgiməń |
kolməńgeməń тридцать два |
|
kaftə |
kaftə |
|
м.лит. |
рус. |
|
komś fkä |
двадцать один |
|
komś kaft̑a |
двадцать два |
|
komś kolm̑a |
двадцать три |
|
komś ńiľ̑e |
двадцать четыре |
|
komś veť̑e |
двадцать пять |
|
komś kot̑a |
двадцать шесть |
|
komś śiśəm |
двадцать семь |
|
komś kafks̑a |
двадцать восемь |
|
komś veJks̑a но: |
двадцать девять |
|
kolməgeməń fk ä |
тридцать один |
|
kolməgeməń kaft̑a |
тридцать два |
Следует заметить, что приведенные диалектные формы fkijə / fkijе / fkijä ‘один’, kaftuva / kaftuvə ‘два’, ńiľije / ńiľijä / ńiľijə ‘четыре’, śiśəmge / śiśəmgä / śiśije ‘семь’ сохраняют более древнюю основу, чем аналогичные в литературном языке.
Порядковые числительные образуются от количественных с помощью суффикса -će : kolməće ( ə ) ‘третий’, ńiľəće ( ə ) ‘четвертый’, kafksəće ( ə ) ‘пятый, kefkijəće ( ə ) ‘одиннадцатый’, koməś kotuvəće ( ə ) ‘двадцать второй’. По мнению Д. В. Бубриха, Б. А. Серебренникова, суффикс -će восходит к -nce : n перед c фонетически выпадает, а если сохраняется, то под воздействием параллельных образований на -ń . Оставшееся -ce возводится к указательному местоимению śe ‘тот’ [2, 94 ; 5, 120 ].
Во многих диалектах мокшанского языка, как и в большинстве других финно-угорских языков, порядковые числительные vaśəńće(ə) ‘первый’, om-bəće(ə) ‘второй’ образованы от супплетивных основ, ср.: эрз. vaśəńće, удм. vaź ‘первый’; эрз. ombəće ‘второй’. Числительное vaśəńće, по-видимому, этимологически связано с элементом vas, содержащимся в таких наречных обра- зованиях, как vasńa ‘сначала’, vaso-lo ‘далеко’. Первоначально vaśəńće могло означать ‘начальный, отдаленный’. Оmbəće ‘второй’ может быть разделено на три составные части – основа о-, представляющая собой местоименную основу (ср.: венг. a-z ‘тот’, удм. o-t-yn ‘там’); суффикс -mb, восходящий этимологически к суффиксу -mp сравнительной степени; суффикс порядковых числительных -će.
Весьма интересным в юго-восточном диалекте и в рыбкинско-мамолаевских говорах является образование составных числительных с 21 до 99, в которых последний компонент, называющий единицы, принимает аффиксы
-ije / -ijä , -va , -ga / -gä , сохранившие древние характерные черты пролатива.
Особо следует остановиться на рыб-кинско-мамолаевских и темниковско-атюрьевских говорах центрального диалекта, где данные порядковые числительные образуются от основ количественных числительных fkä ( e ) ‘один’ и kafta ( ə ) ‘два’:
|
темн.-атр.г. |
рыбк.-ммл.г. |
м.лит. |
рус. |
|
kaftəćə |
kaftəće |
ombəć̑e |
второй |
|
koməś |
koməś |
komś |
двадцать |
|
fkijəćə |
fkijəćä |
vaśəńć̑e |
первый |
|
koməś |
koməś |
komś |
двадцать |
|
kaftuvəćə |
kaftuvəćə |
ombəć̑e |
второй |
Собирательные числительные обозначают количество лиц или предметов в их совокупности, объединяемых в одно целое по отношению к совершаемому ими действию или свойственному им признаку. Они образуются от количественных путем присоединения суффиксов -ksne(a) , -cka(e,a) / -icka(e,^), -nc : kaftəkśńe ( ə ) ‘оба’, ‘двое’, kolməćkä ( e,ə ) ‘трое’, ńiľićke ( ə ) ‘четверо’, vеťićke ( ə ) / viťićke ( ə ) ‘пятеро’, kafənc ‘двое’.
Отметим, что в рыбкинско-мамо-лаевских говорах центрального диалекта в отличие от мокшанского литературного языка суффикс - kśńe не встречается и,
(Гц) Финно – угорский мир. 2014. № 3 соответственно, не образует собирательные числительные [4, 17 ].
В говорах центрального, юговосточного и средне-вадского диалектов функционируют варианты -ićkä(e,ə) / -Þćkä(e,ə) , придающие числительным значение полного охвата количества. Например: kafta ( ə ) – рыбк.-ммл.г. kafťićkä / kafićkä , юго-вост.д. kafťićke , ср.-вад.д. kaftÞćke ( ə ) ‘оба, все два’; kоlma ( ə ) – рыбк.-ммл.г. kolmićkä , юго-вост.д. kolmićke , ср.-вад.д. kolmÞćke ( ə ) ‘все три’.
Большая значимость нумеральных слов, их словообразование, употребление и распространенность делают изучение числительных, роль которых в профессиональной и общеупотребительной лексике постоянно возрастает, весьма актуальным.
Собирательные числительные, образованные при помощи притяжательных суффиксов -ńen , -ńet , -ńenza(ə) , -ńek / -ńeńk / -ńeńək , -ńeńť , -ńest , выполняют функцию счетно-личных местоимений. Они одновременно показывают и количество, и лицо, например: kafəńən ‘вдвоем я’, kafəńət ‘вдвоем ты’, kafəńənza ( ə ) ‘вдвоем он’, kafəńək / kafəńəńk ‘вдвоем мы’, kafəńəńť ‘вдвоем вы’, kafəńəst ‘вдвоем они’; kоlməńən ‘втроем я’, kоlməńət ‘втроем ты’, kоlməńənza ( ə ) ‘втроем он’, kоlməńək / kоlməńəńk ‘втроем мы’, kоlməńəńť ‘втроем вы’, kоlməńəst ‘втроем они’ и т. д.
Согласно диалектному материалу, формант -ńəńk употребляется в юговосточном диалектном ареале: инс.г. ka-fəńəńk ‘вдвоем мы’, viťəńəńk ‘впятером мы’, а в некоторых говорах центрального диалекта функционирует вариант -ńeńək , где развился буферный гласный ə : темн.-атр.г. kafəńəńək ‘вдвоем мы’, kolməńəńək ‘втроем мы’.
В употреблении разделительных, а также числительных приблизительного счета в диалектах мокшанского языка выявляются лишь фонетические разли- чия, например: цнтр.д. vеťəń-vеťəń / viťəń-viťəń, юго-вост.д. viťəń-viťəń, зап.д. vеťəń-vеťəń / viťəń-viťəń, м.лит. veťəń-veťəń ‘по пять’; цнтр.д. keməńška / kiməńčka, юго-вост.д. kiməńška, зап.д. keməńška / kiməńčka, м.лит. keməńška ‘около десяти’.
Дробные числительные, обозначающие дробные величины, образуются от количественных числительных в сочетании со словами päľe ( ə ) ‘половина’ и послелога maRta ( ə ) ‘с’, а также от порядковых числительных при помощи суффикса -ks и слова päľks ‘часть’: kolma päľe ( ə ) maRta ( ə ) ‘три с половиной’, ńiľe ( ə ) kotəćəks päľkst ‘четыре шестых части’.
В некоторых говорах центрального диалекта вместо слова päľks ‘часть’ употребляется заимствованный эквивалент taľeka ‘доля’: темн.-атр.г. kolməćəks taľekanć , veťəćəks taľekanć , рыбк.-ммл.г. kolməćəks taľekanć , veťəćəks taľekanć , м.лит. kolməćəks päľksənć ‘третью часть’, veťəćəks päľksənć ‘пятую часть’.
Неопределенно-количественные числительные lama ( ə ) ‘много’, kəržá / kə´rža ( ə ) / kər͡dža ‘мало’, af kərža ‘немало’, af lama ( ə ) ‘немного’, baiťak ‘порядочно’, обозначающие неопределенно-малое или неопределенно-большое количество, выступают в различных вариантах, обусловленных ареалом распространения.
В большинстве говоров западного диалекта варианты данных числительных различаются ударением. Если в мокшанском литературном языке в форме kəržá ‘мало’ ударение падает на второй слог, так как в первом слоге гласный непереднего ряда, то в рассматриваемых диалектах эта особенность не учитывается и ударение падает на первый слог: kə´rža ‘мало’. Другие примеры: зап.д. túnda , úľćä ( е ), tə´rva , м.лит. tundá ‘весна’, uľćä´ ‘улица’, tərvá ‘губа’ и т. д. Следует сказать, что в западном диалектном ареале сохраняется древнемордовское ударение, в основном прикрепленное к первому слогу слова.
Все неопределенно-количественные числительные, подобно определенным,
Собирательные числительные, образованные при помощи притяжательных суффиксов -ńen , -ńet , -ńenza ( ə ), -ńek / -ńeńk / -ńeńək , -ńeńť , -ńest , выполняют функцию счетно-личных местоимений.
Они одновременно показывают и количество, и лицо.
влияют на формальное выражение множественности в словах, связанных с ними: lamə kud ‘много домов’, kəržá / kə´rža ( ə ) / kər͡dža maŕ ‘мало яблок’, af kərža ťev ‘немало дел’, af lama ( ə ) veď ‘немного воды’, śorəda baiťak ‘зерна порядочно много’ и т. д.
Числительные, употребляемые в значении существительных, изменяются по падежам неопределенного: ном. koməś fkä ( e ) / komś fke ‘двадцать один’, ген. koməś fkäń / komś fkeń , дат. koməś fkäńďi / komś fkeńďi ; определенного: ном. ńiľəńgeməń ńiľiəś / ńiľəńgiməń ńiľijəś ‘сорок четыре’, ńiľəńgeməń ńiľiəť / ńiľəńgiməń ńiľijəť , ńiľəńgeməń ńiľiəťi / ńiľəńgiməń ńiľijəťi склонений и принимают суффиксы притяжа-тельности: fkäźe ( ə ) / ifkäźe ( ə ) / vaśəńćəźe ( ə ) ‘мой первый’, fkäće ( ə ) / ifkeće ( ə ) ‘твой первый’, fkac ‘его (ее) первый’ и т. д.
Таким образом, большая значимость нумеральных слов, их словообразование, употребление и распространенность делают изучение числительных, роль которых в профессиональной и общеупотребительной лексике постоянно возрастает, весьма актуальным.
Приведенный языковой материал дает основание утверждать, что в современных диалектах мокшанского языка обнаруживается довольно большое количество разнообразных форм имени числительного. Всестороннее углубленное изучение диалектных особенностей данной категории составляет одну из проблем современного мордовского языкознания в связи с расширяющимся заимствованием форм числительных из русского языка и исчезновением ряда мокшанских говоров.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ атр.г. – атюрьевский говор центрального диалекта;
венг. – венгерский язык;
зап.д. – западный диалект;
инс.г. – инсарский говор юго-восточного диалекта;
коми-зыр. – коми-зырянский язык;
кр.-синдр.г. – краснослободско-синдровские говоры центрального диалекта;
манс . – мансийский язык;
мар. – марийский язык;
м.лит. – мокшанский литературный язык;
рус. – русский язык;
рыбк.-ммл. г. – рыбкинско-мамолаевские говоры центрального диалекта;
сев.-зап.г. – северо-западные говоры западного диалекта;
ср.-вад.д. – средне-вадский диалект;
ст.-шайг.г. – старошайговский говор центрального диалекта;
темн.-атр.г. – темниковско-атюрьевский говор центрального диалекта;
темяш.д. – темяшевский диалект;
удм. – удмуртский язык;
фин. – финский язык;
цнтр.д. – центральный диалект;
эрз. – эрзянский язык;
юго-вост.д. – юго-восточный диалект;
юго-зап.г. – юго-западные говоры западного диалекта.
Список литературы Морфология имени числительного в диалектах мокшанского языка
- Бабушкина, Р. В. Темяшевский диалект мокша-мордовского языка//Очерки мордовских диалектов. -Саранск, 1966. -Т. 4. -С. 16-226.
- Бубрих, Д. В. Историческая морфология финского языка/Д. В. Бубрих. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. -186 с.
- Деваев, С. З. Средне-вадский диалект мокша-мордовского языка//Очерки мордовских диалектов. -Саранск, 1963. -Т. 2. -С. 261-433.
- Липатов, С. И. Рыбкинско-мамолаевские говоры мокша-мордовского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук/С. И. Липатов. -Тарту, 1972. -23 с.
- Серебренников, Б. А. Историческая морфология мордовских языков/Б. А. Серебренников. -М.: Наука, 1967. -261 с.