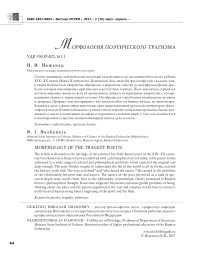Морфология поэтического трагизма
Автор: Неженец Н.И.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена эстетическому наследию талантливого, но малоизвестного поэта рубежа XIX-XX веков Ивана Коневского. Коневской был наделён философским складом ума, в своём поэтическом творчестве обращался к широкому спектру культурфилософских проблем, которые анализировал оригинально и достаточно глубоко. Поэт-мыслитель стремился постичь мировую жизнь во всех её проявлениях, войдя в литературное творчество с «созерцающими очами» и «внемлющим слухом». Он обращался к проблемам взаимосвязи человека и природы. Природу поэт воспринимал как некое особое глубинное начало, во многом приближаясь здесь к философии пантеизма, ярко представленной в русской литературно-философской мысли. Коневской выделял в своих стихах и некие глобальные проблемы бытия, размышлял о месте и назначении человека в огромном и сложном мире, о том, как соотносятся в многогранном существе человека бинарные начала духа и плоти.
Поэзия, трагизм, бытие
Короткий адрес: https://sciup.org/144160690
IDR: 144160690 | УДК: 930.85-821.161.1
Текст научной статьи Морфология поэтического трагизма
Иван Коневской (Иван Иванович Ореус, 1877–1901) положительно привлекал к себе неутомимой эстетико-тематической сосредоточенностью своей поэзии. Он писал лирический дневник, философски осмысливая в нём свои каждодневные мысли, желания, эмоции, вызванные различными вещами и явлениями бытия.
Творческое действо было для него истинным жизненным делом, каким и должно быть по своей сущности, а именно – уяснением собственных дум и чувствований в их внутренней соотнесённости с миром сущим. Прохаживаясь по тропам своей недолгой жизни (а он прожил всего двадцать три года), юный поэт мечтательно и страстно погружался в таинство текущего времени, в бесконечную смену дня и ночи, в привычные откровения, что таятся в сумраках утренней и вечерней зари, в тех царственно-потаённых безднах, какие скрывает в себе каждый жизненный миг.
Поэзия Коневского складывалась из внутренних излияний и раздумий «о себе и обо всём». Их содержание, составившее безотчётный интерес его души, высвечивало в ней две смысловые грани: одна связывалась с существом изначально данной человеку свободы, а другая намечала нетленные истоки его духовной силы. И в то время, как многие деятели нового искусства отстранённо сосредоточивались на вольной «переступаемости границ», разрешая себе абсолютно всё, что традиционно считалось нежелательно-запретным, будь то область морали или просто стихосложения [1, с. 42; 7, с. 129], Иван Конев-ской, принадлежавший, кстати, к тому же творческому кругу, забирался в образные анналы избранной темы философически содержательнее и глубже. Он «усматривал» драматическое бессилие человека не в условиях его мирской жизни, а в тех изначальных отношениях человека и природы, человека в природе, какие издревле определялись в его «наследственности, в законах восприятия и мышления, в / непререкаемой/ зависимости духа от тела [2, с. 81]».
Человеку, как известно, суждено нести в себе «наследие веков» [8, с. 31]. Поэт в одноимённом стихотворении, посвящённом этой теме, писал: «Ещё во мне младенца сердце билось, а был зрелей, чем дед, я во сто крат». Несколько позднее, развивая данную мысль, он утверждал, что его душа, «насыщенная веками размышлений», с рождения причастна к «святому золоту, что нам отцы куют [3, с. 59]».
Но в этом «наследии веков», по Ко-невскому, не всё является «золотом». Даже ближайшие предки, исполненные известных достоинств, отмечались вместе с тем и немалой порочностью. А сколько бесшабашного накопилось в тёмном сознании давно ушедших пращуров и тем более – людей пещерных, которые, естественно, становились «ступенями» к человеку современному?! Смутные всплески былых тысячелетий, привычно повелевая, исстари сдерживают его «слепую волю». Поэтому победа над нею, по мысли поэта, и есть первый и необходимый шаг человека к его истинной свободе.
Коневской исследовал само вселенское пространство и время. Он пристрастно направлял мысль в существо человече- ского духа, пытаясь постичь его жизнь во всех мирских проявлениях. Его искренне волновали ведические тексты древних дравидов, равно как и пышность и огне-зарность волшебного покрывала Майи. Поэт искусно сплетал «из серебряных нитей» песнь летнему дождю, слагал и пел торжественные гимны зимнему ветру и заснеженному лесу. Но, наряду с чувственным опеванием таинства земной красоты, в его стихах возникала и мысль о том, что само по себе прекрасное есть нечто томительное, стесняющее человека. По мнению Коневского, мир вещей и явлений, как он издревле сложился на земле, создавался человечеством, но отнюдь не человеком конкретным. Не по воле человека знойное лето сменяется дождливой осенью и в весеннем небе разливается сияющая синева, никто не властен остановить неумолимо текущее время или бесследно растворить мерцающие у горизонта миражи. Если дух человеческий и свободен, то зачем он в этом мире, где царят неотвязчивая скука и страдания, рождающие зло?
Коневской входил в поэзию, богатый недремлющей творческой мыслью; его художественное сознание, «насыщенное веками размышлений», цепко связывалось с миром вещей и явлений, пытаясь понять всё явленное и неявленное и по ним предугадать собственные судьбоносные линии и их связи с внешним, земным и духовно-нравственным, небесным: он жадно ловил в себе душевные движения, образно воспроизводя свои чувства, эмоции, переживания в их соотнесённости с царством природы, и, как дитя, радовался сиянию солнца в небе и чуткому шороху травы на земле. Он буквально купался в песенных всплесках сущего.
И песни пелись так дики,
И так буйна была игра,
И мнилось, силы так велики...
Дух Коневского, словно окольцованный, метался и кипел в лабиринте неиссякаемо рождающихся чувствований. Он, как сказочный богатырь, чья нерастраченная «силушка по жилушкам перелива-лася», чувствовал себя опьянённым «буйной юности вином»; его мыслительная работа шла с необычайной быстротой, так, что он ощущал себя «от дикой, жаркой качки лет разгорячённым и разбитым». Как золотая пчела, цедил он сок из роскошного цветника жизни, стараясь прожить и осмыслить каждый её явленный миг, наслаждаясь каждой минутой бытия, и не было в поэзии той эпохи творческого дела более полного и страстного, чем у него. В Коневском ощущалась воистину ненасытная жадность к жизни, из которой он неустанно черпал много такого, что разве мудрецу дано заметить и вобрать в себя. Его страстно влекло к неизведанному и недоступному, что ощущалось в живом существовании всеобъемлющего духа, обволакивающего землю и небо, солнце и звёзды.
Коневского серьёзно увлекали предания о существовании жизни иной, нерукотворной. Поэт любил поразмышлять о «житии» живых существ, что обитали в реках и воздухе, на склонах гор и в зарослях речных рощ – повсюду, где «ненужным, смешным казался человек». С неугасимой страстью он направлял свой исследовательский взор на всё, где могли скрываться «исходы» из человеческого миробытия. Он искренне полагал, что они есть везде, и стоит лишь поглубже протиснуться в привычное и повседневное, как тотчас откроются тайные тропы
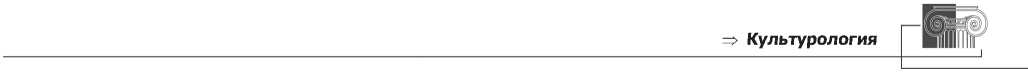
Поэта непримиримо согревало сознание, что человеческая жизнь не замыкается на земле и что её непримиримый дух как основа сущего несовместим с мыслью о смерти как о полном исчезновении и небытии. «Кто мы – неведомой породы переходы?» – риторически вопрошал Ко-невской [3, с. 75]. И тут же он с надеждой и верой старался убедить себя, что дух его мозга и сердца есть «стойкая твердыня»; он неподвластен неведомому уничтожению, и то, что называется смертью, есть не более чем его «обморок» (а не «хладное оцепенение»), и что именно в этом обмороке и постигается извечное блаженство и нега. И даже если душе предписано покинуть Землю и потонуть в глубинах небесных, то и тогда она свяжется и прикрепится к другой планете, столь же живой и мыслящей, как и Земля. И эта смена жизни и умирания будет совершаться извечно, как чреда приливов и отливов у берегов постоянно шумящего моря.
В своём воображении поэт нередко забирался в заоблачные высоты, чтобы оттуда узреть небывалое и новое, что для стоящих внизу представляется недосягаемым, словно за горизонтом. Единственной отрадой его было разве что смутное пророчество. «Навсегда упьюсь», – говорил он, припав жаждущими губами к роднику образно-знаковых предвидений. Из неведомых кущ «зеленеющего утра»
на него обещающе веял «неведенья свежий порыв», который так безошибочно-естественно «небывалое чует в груди». Ему страстно хотелось ко всему прикоснуться, всё объять и вместить в себя, всем насладиться:
Как собрать в одно все части света! Что свершить, чтоб не дробился год? Не хочу я дольше ждать зимою, Ждать с тоской, чтоб родилась весна, Летом жить лишь с той мольбой немою,
Чтоб была и осень суждена.
И какое-то странное ощущение тоски проникало уже в ранние его стихи: «Я с жаждой ширины, с полнообразья жаждой, умом обнять весь мир желал бы в миг один». Тогда в сердце поэта закрадывалось страстное желание «вместить в свои развёрстые очи» всё окрестное до «самого кругозора». Коневской словно и впрямь надеялся соединиться с миром, полагаясь на силу животворного креста, который может открыть ему «славу всех явлений и страстей, все истины зараз», предаваясь «грозному напору» мировых волн: ветру, лучам, запахам солнца и света; он с восторгом взирал на миражные дали «неистового, непостижимого простора» и, взирая, задавался вопросом извечным и естественным: «за что люблю я с детства жизнь и землю»? И находил ответ – неожиданный и простой:
За то, что всё в ней тайной веселит, За то, что всюду вещему я внемлю – Ничто не дарует, но всё сулит.
Певец ловил себя на мысли о том, что чувство его жизни в существе своём определяется одним «посулом» жить, дышать, мыслить, и что всё это и есть будущее, и что этим оно блаженно, и что все надежды и все тайны человечества связаны именно с ним. Любовь естественная, неизбывная, трепетная к миру сущего, ко всему, что есть на Земле и окрест земли и чем живёт сам поэт, – такая любовь неуклонно определялась и утверждалась им.
Со мной – что вечно:
Со мной мой дух…
Люблю сознанья неизбежность
И чуткий пыл,
В природе – гордую нетленность, Творящих сил.
Поэт полагал, что именно в любви к сущему раскрывается и расцветает это «изобилие сил» творящих, и что грядущий «час» дарует человеку то, «чего во век не приносил», а именно – любовь к жизни «под вечными сводами». Это чувство напоминало о себе певцу даже в орбите «вечно обуревающей» страждущую человеческую душу роковой думы: что же там, за гранями земного и мыслящего? Есть ли там то, что некогда обещал показать Вергилий незабвенному автору «Божественной комедии»?
И Коневской с мучительным упованием старался дорисовывать мистическую картину, что скрыта под тёмными сводами инобытия:
…встречались тени.
Сыны: узнав их, я любил
Все муки вещих их видений.
И ни на миг их не забыл…
Глядел в те дни я исподлобья,
Но не терял из виду свет,
Не уходил всё глубже в гроб я:
Я помнил радости завет.
Ясно виделось некое чудо, озаряющее мир:
Я слышу внятно – отовсюду Стекаются былые чудеса
К живому, истому, земному чуду: Всё ближе, ближе шепчут голоса…
Вера в грядущее и близкое счастье озвучена в весенней песне Коневского «Радоница»:
Слышал я воззвания
Суровые и здешние,
Негодования шумные,
Что ропщут: мир во зле:
Как тусклы те воззвания,
Те вопли скудоумия,
Те вопли человечества, Гнетомого судьбой.
О, замирайте, нищие.
Я вашего безумия, Слепого упования Не обновлю собой.
Стиху Коневского не всегда хватало словесно-образной ясности и простоты. Язык поэта откровенно отдавал лабораторной книжностью, допускавшей грамматические смещения и неточности. Он, конечно, ощущал «силу и право» высшей, надмирной власти, причисляя себя, но к тем, которые «себя обретают, в себе расцветают: в себе им простор». Певец допускал, что везде и всюду «хочет злой дух быть цел». Но человек жаждет целостности и самобытности; и, утверждая в себе непримиримую неукротимость «свободного духа», поэт провозглашал в качестве верного признака собственного начала:
Свой лик душевный в целости храня, Люблю вверяться тихому движенью: Пусть увлечёт от берега меня.
Да вновь примчит к родимому селенью. Там внятен каждый жизни переход, Там живы все концы и перепутья, И сладостны теченья этих вод, Что иногда боюсь их всколыхнуть я, Всё тот же я средь этих волн и смут…
Безусловно, человеку, чтобы утвердиться в своём могуществе, нужно иметь не только сильное тело, но ещё и твёр- дую волю, могущую перешагивать через зримые препятствия и незримое время. И поэт приветствует волю, отодвигающую время, и вместе с тем мучительно думает о том, как добиться полной победы над ним и сонмом его «лихих» приспешников.
Кто против нас? Это недруг великий… Имя ему – ползучее Время.
Тучи песчинок из нас он несёт,
Очи слепит нам… но, славное племя, Вашего натиска он не снесёт…
Как нам отбиться от всякого лихого, Которого тягостный глад
Снедает – от Времени серо-глухого?..
По мысли поэта, самым главным препятствием непримиримому духу является плоть, которую другой, более поздний мученик этой темы (Л. М. Леонов) уничижительно называл «глиной» [4, с. 588].
Много нам расставлено ловушек:
Отовсюду нам грозит увечье,
Есть пред нами немощное тело,
И зачем-то к нам оно пришито:
Всё, что эту внешность лишь задело, Почему-то и внутри прижито.
Казалось, невозможно отстраниться от этой докучливой, донимавшей его дух плоти. Впрочем, певец ясно сознавал, что бороться с ней тщетно, ибо жизнь вне плоти бессодержательна и уныла, и он склонялся к естественному телу, находя в нём не только противника, но ещё и творца:
Всюду за собой тебя влача,
Я тобой, как путами, «обвит», Устремлюсь ли в небо сгоряча, Снова шаг твой мой порыв язвит… Не перестань меня в пяту колоть И затягивать и вдаль гонять.
Тогда с его пера стекали восторженные звуки оды, завораживающе славившей существо плоти:
Волокна мышцы всё теснятся
Вперёд и вверх, тепло и дух Зовут, чтоб силами меняться, Чтоб совершался жизни круг… И всё творит, и всё струится, И тело – тьмы сплочённых сил…
Коневской не раз пробовал обожествить плоть, представляя себе, как «людская кровь-руда», неустанно «раззадоренная», потечёт в теле «свободно с лёгкостью водною», не опасаясь «губящего огня страстей».
Это была его мечта, рождённая исконным желанием в «вечном горении» и вечном сомнении поэтического сердца. И он знал, что только в «нирване», в этой блаженной устремлённости к вечной природе можно обрести блаженное успокоение души, жаждущей себе нескончаемых «живых дней»; ему хотелось естественного и простого – «создать, вкусить» от бесконечности и «волнений», воспетых некогда «певцом деянья» Данте.
Биение жизни, её скрытое волнение тревожили молодого поэта. И там, где «наивный богатырь Пушкин» узрел однажды «мышью беготню [5, с. 225]», Ко-невской вольно ощущал себя в пустыне житейских волн и дерзкой «смуты»; и готов был беспрестанно погружаться в неё и, погружаясь, каждый раз невольно пугался и в страхе «жмурил глаза от её чудес». Ему во всём слышался «ропот буйных клиров и страстный трепет». В природе он искал и находил всё, что дышало неразгаданностью и богатством жизни.
Не в чистом поле я живу,
Не в степи ровной и прямой,
Где просто всё и наяву…
В дубравах только жив мой дух,
Приютах вьющихся тропин,
Где шелестом исполнен слух
От глушей тёмных и купин,
О, сколько тихих тайн…
Всё есть тайна, и всё – неразгаданность; она – и в гулком шуме леса, и в жилках трепетного листка, узорно слетевшего с дерева, и в порывистых шалостях ветра, вольно гуляющего по безбрежным раздольям русской пространственности. И Коневской приходил к мысли, что «природа непроста», как непросты в ней «сеть узора и сеть излучистых дорог», на которых «явленья бьются и играют», словно малые и бесхитростные дети. Но в полуденные часы, которые так завораживающе томят чуткую к тайне душу, поэта охватывал несказанный ужас:
Таинство душное дышит
В полдень в сосновом бору…
Запах брожения плоти…
Казалось, таинственное нечто спускалось с неба, обволакивая окрест всё земное; сама Вселенная надвигалась на поэта со всем своим древним сокровищем – пульсирующим холодным светом, и тьмою, древним скарбом, весь «сладострастно-глухой» мир, «млеющий во властной дремоте», смещался к нему своей густо рассыпанной звёздностью и мраком. Он, конечно, догадывался, что «свет (небесный) грозен, грознее ночи» и что «за тканями света дневного скрываются некие совершенно не поддающиеся разгадке тайны». Смертной тоской веяло от такой жгучей неопределённости, и грозным чудовищем представал в его стихах «безмерный полдень, разевающий свой /жаркий/ зев». Голос таинства, ниспосланный небом, особенно ощущался в такой полдень в лесу:
…кусты присмирели:
Их сумрак зелёный уснул, И жалобный звук протянул Неведомо кто на свирели. И дрогнуло сердце невольно, И тихо так звук возрастал, Так вкрадчиво он и так больно В мой трепетный слух долетал. Пустился бежать я тревожно На звук по откосу холма, И небо яснело неложно, А в сердце сбиралася тьма…
Таинство сделалось излюбленной темой лирических исканий Коневского. Оно становилось мерой отношения поэта к людям и миру в целом. В стихотворении «Презрение» поэт выразительно признавался:
Я один на земле, я один…
В поле труп мой вы, люди, нашли, Ну, и бросили…
По равнинам всесильных дыханий, Вижу тёмные ваши тела…
И я вею и ширюсь, как мгла:
Я один без конца и без брани.
Ему совсем не доставляли радости встречи с друзьями детства; его не прельщали их немолчные речи и скрытые в них «жгучие» интересы; он находил отраду лишь в своём смутном душевном пророчестве, исходившем от него самого, которым он готов был упиваться с наслаждением. И в тайне, разлитой по всему мирозданию, он ощущал себя безмерно одиноким. Отстранённость от мира удручала и притягивала его. Это было острое предчувствие близкого конца… Он знал, что следы Высшего Духа есть повсюду, но не дано узреть самого Духа.
Его сверстники – юноши – непринуждённо сближались, легко расходились, при малейшем несогласии старались тут же выяснить отношения, почти не сговариваясь, предавались общему веселью и столь же неожиданно могли взбунтоваться и пойти бить окна купеческих лавок [6, с. 43]. А его ничто это не занимало, ему всё представлялось ненужным и странным, и он не то чтобы отчуждённо, но с крайним равнодушием и в равной степени отстранённо отодвигался от круга, в котором бездумно предавались дружеской пирушке и праздности, и от толпы, собиравшей решительных бунтарей и искателей истины. Его неведомо «опьянял» лишь веявший:
... в холоде дней моих хмель, Затаённый в тиши моей шум.
Поэт нередко ощущал полную растерянность в пучине окружавшей его реальности, а при общем всплеске юношеского негодования, происшедшем в феврале 1889 года не без влияния «народников», смущённо и с недоумением вопрошал:
Кто вы, откуда вы, юноши бледные? Что вы беснуетесь в чахлом веселье?
Шутки докучные, буйства печальные…
Коневской жил в одиночестве. Ему мнилось, что быть одному и быть независимым – это уже не его желание и не его цель, а его жребий и его участь, что кем-то задуманное волшебное желание отмене не подлежит и что уже ничего поправить нельзя, как бы он ни простирал руки в тоске, как бы ни выражал свою добрую волю и готовность к общению и единению; ему предписано быть одному. При этом он вовсе не вызывал недоброжелательности к себе. Напротив, в его кругу было много молодых людей, желав- ших называться его друзьями, многим он нравился. Его приглашали, ему дарили подарки, писали милые письма, но близко сходиться с ним никто не хотел, единения ни с кем не возникало, никто не желал и не был способен делить с ним его жизнь. Его окружал теперь воздух одиночества, та тихая атмосфера, то ускользание среды и неспособность к контактам, против которых бессильна и самая страстная воля. Такова была одна из важных отличительных черт его жизни, которою он старался выделиться в своих грустных стихах:
…гордые люди идут нам на смену, Не мечут они возмущённую пену, Не лезут на стену,
И внутрь обращён у них взор.
Что чуют они, то в себя принимают, Себя обретают, в себе расцветают: В себе им простор.
Коневской не принимал любви «раздробленной» и мелкой. Ему виделась любовь как чувство живого единения всего, что есть в жизни. Поэт грезил о любви «широкой, как море», которая не вмещается в «земные берега». Очень редко возникала женщина в его поэзии; если она и появлялась, то разве что для того, чтобы услышать от певца пропетые ей вечные и полные душевной скорби слова: «Любим мы любовью раздробленной и ничего мы вместе не сольём». Но на пытливый и прямой вопрос, любил ли поэт сам, он отвечал уклончиво:
Я не любил. Не мог всей шири духа
В одном лице я женском заключить. Всё ловит око, всё впитывает ухо, И только так могу в любви почить.
Впрочем, в стихотворении «Память встречи» он вспомнил о девушке, чей чарующий образ глубоко запал в его сердце и с которой у него состоялся некогда «поединок роковой»:
Пред этой бледной, свежей силой Зелёных, как вода, очей Я трепетал, как пред могилой Моих решений и речей.
Но скоро я собрался с духом, Собрал весь пыл безумных дум И знал, что овладею слухом Той, чей приветный взор угрюм; Что сфинкс откликнется на пенье И странный бред мечты моей, Почуяв в нём и те виденья, Что над реками льнули к ней. Я не любил, но как стремился Любить: мой дух кипел творя…
В нём всё говорило о любви. Его постоянно одолевали смутные мечтания, творческие всплески духа; и в этом омуте чувств и предчувствий женское неуклонно размывалось, а точнее, широко, объёмно раздвигалось, охватывая и пропитывая собою всё земное и небесное, мирское и вселенское – всё, что плодит и любит.
И то, как он старался мелочно передать морфологию своего внутреннего состояния, как неустрашимо стремился исследовать все мгновенно вспыхивающие и тотчас гаснущие извивы своих душевных переживаний, выдавало в нём дух неукротимый и неуступчивый, жаждущий земного долголетия и счастья.
Мирообъемлющему сердцу Конев-ского и полного обладания сущим было бы мало, чтобы выразить чувство своей удовлетворённости.
Поэт мог говорить о странном брожении мечты, о художническом кипении в нём юношеского духа, о каком-то неведомом и смутном видении, что посещало его чуткое воображение, но ни разу не обмолвился о чувственном волнении при виде конкретной женщины. Любовь поэта к «деве думной», что бродила где-то «по ласковым полям», но так и не «возросла тоскою неустанною» в его живом и трепетном сердце, не сумела выразить всей его тщательно скрываемой чувственной тайны; вне её осталось всё страстное и естественно желаемое:
…о нежная,
Объятия сомкнём –
То будет нега снежная, –
Мы в свежести уснём…
Мечтая реки вольные, Нам в сон идти пора…
Звуки милого женского смеха иногда долетали до сердца поэта; он вспоминал, что в своём вещем сне уже видел её чистые «руки, движенья тела и очей», и, ожидая, что «Красота откроет славу всех явлений и страстей», спрашивал:
…оправдает ли она,
Что бодро в ней предначертаю?
Всё ль обоймёт её волна?
Ужель, о дивная дриада, Тобою всё мне суждено – Утеха мысленного взгляда И буйной юности вино?
Его героиня меньше всего являлась пленительным образом женщины, но больше представала как некое сказочное явление: не то она волшебная «дриада», не то какое-то иное идеальное существо природы, ставшее «ключом к таинству» и совместившее в себе земную мудрость с её внешним пьянящим очарованием.
Коневской провидчески чувствовал присутствие таинства и в изображаемой им первозданной природе, и в том рукотворном мире, который возведён человеческим разумом. Он взирал на скры- тые под снегом невзрачные крыши петербургских домов, ловил зависавшее над ними вихревое «шуршание» дыма, и ему образно чудилось, что вместе с дымом испаряется в небо лирическая песнь певца. Но поэт недосягаемо высоко взлетал в своём воображении вверх, чтобы тут же резко опуститься и упасть в изнеможении на землю, и, образно взлетая, поднимался, и, конечно, падал, но не разбивался, а вставал, чтобы снова взлететь и упасть…
В стихии жизни, в полусне громадном Я погружался взором робко-жадным, Но не сломил я свой строптивый нрав. Поэт не побеждал, но и не сдавался. Тем, что он постоянно ощущал таинство бытия, ощущая, верил и сомневался в содержании тайны, и тем, что он тревожно терзался, так что жизнь и тревога в нём слились воедино, он вызывал несомненный творческий интерес у всякого сердца, трепетно переживающего сущее и себя в сущем. Его неуступчивая «строптивость» спасала его от тоски и отчаяния.
После гармонически светлого Пушкина Коневской оказался едва ли самым радостным и самым бодрым явлением в русской поэзии. В своём высоком лирическом откровении он излагал образные помыслы весьма «резво и безумно», чутко внимая и бесшабашному мельтешению вьюги, и безмолвному мраку зги.
О, гряди под тёмной вьюгой, Верь глуши дорог,
И пройдёшь сквозь тлен недуга
В огневой чертог.
Коневской говорил на языке жизни и её поэзии. Он верил, что сам он безотчётно счастлив, и очень дивился своему прирождённому умению находить счастье в себе: «Что ж так веселит, что не рад уми- рать я? Чем жизнь так блага и красна?» Певец вплотную подступал к осознанию того, что скоро его не станет…
Чувство счастья росло, ширилось в его душе, выливаясь в торжественные, как гимн, строки:
… до последних пределов земли Стану я славить природу живую, Песнь гробовую, песнь громовую, Что немолчно рокочет вдали… … жизни кипучей взрывы,
Всю чистоту её светлую, тёмный весь её тлен…
В бурном порыве лирического чувства ему хотелось:
.. в ширь разливаться,
В буре неистовой мчаться,
В битве сплеча разгуляться…
Ему была мила косная, грубая, самая жизненная стихия:
Мила земля дебелая;
Как дивен бедный вешний цвет!..
Даже в беде и горе Коневскому чудилось «жизни созданье и неги суровой приют». Радостное ощущение бытия безумно заполняло его душу; плескалось через край:
О, взыграй до восторга, зеница,
До зенита воспрянь.
Обращая своё слово к истине, поэт говорил ей: «Знай, что люблю я и обман твой нежный». Он пытливо и зорко вглядывался в существо истины; а истина в поэтическом голосе Коневского, берущем истоки будто от самого солнца, соотносилась с утверждением неугасимой молодости и вольности.
Внемли, внемли,
Кликам земли,
Грозная юность, ярость земли!..
Список литературы Морфология поэтического трагизма
- Аронов А. А. К вопросу о ментальности отечественной культуры- развитие рывками // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 1 (63). С. 38-45.
- Брюсов В. Я. Иван Коневской // Русская литература ХХ века. 1890-1910. Москва, 1918. Т. 3. С. 180-192.
- Коневской И. Стихи и проза - Посмертное собрание сочинений - с портретом автора и статьями о его жизни и творчестве. Москва - Скорпион, 1904. 250 с.
- Леонов Л. М. Пирамида. Роман-наваждение - в 3 частях - в 2 томах. Москва, 1994. Том 1. 660 с.
- Лернер Н. Иван Коневской // Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Санкт-Петербург; Москва, 1909. С. 220-231.
- Ремизов В. А. Социокультурные цивилизационные процессы в России- генетико-антропологический анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 6 (68). С. 38-47.
- Тихонова В. А. Национально-культурные традиции и духовное развитие общества // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 2 (58). С. 52-57.
- Флиер А. Я. Некоторые закономерности исторического социокультурного развития // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 4 (66). С. 30-34.