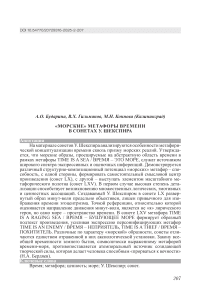«Морские» метафоры времени в сонетах У. Шекспира
Автор: Гильманов В.Х., Бударина А.О., Коннова М.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
На материале сонетов У.Шекспира анализируются особенности метафорической концептуализации времени сквозь призму морских реалий. Утверждается, что морские образы, проецируемые на абстрактную область времени в рамках метафоры TIME IS A SEA / ВРЕМЯ - ЭТО МОРЕ, служат источником широкого спектра экспрессивных и оценочных инференций. Демонстрируется различный структурно композиционный потенциал «морских» метафор - способность, с одной стороны, формировать самостоятельный смысловой центр произведения (сонет LX), с другой - выступать элементом масштабного метафорического полотна (сонет LXV). В первом случае высокая степень детализации способствует возникновению множественных логических, эмотивных и ценностных ассоциаций. Создаваемый У. Шекспиром в сонете LX развернутый образ минут волн предельно объективен, лишен привычного для изображения времени эгоцентризма. Точкой референции, относительно которой оценивается направление движения минут волн, является не «я» лирического героя, но само море - пространство времени. В сонете LXV метафора TIME IS A RAGING SEA / ВРЕМЯ - БУШУЮЩЕЕ МОРЕ формирует образный подтекст произведения, усиливая экспрессию персонифицирующих метафор TIME IS AN ENEMY / ВРЕМЯ - НЕПРИЯТЕЛЬ, TIME IS A THIEF / ВРЕМЯ - ПОХИТИТЕЛЬ. Различные по характеру «морской» образности, сонеты отличаются единством отраженной в них аксиологической установки. Закону всеобщей временности земного бытия, символически выраженному метафорой времени моря, противопоставляется атемпоральный источник созидающей творческой силы, которая делает человека способным «прорваться к вечности» (Н.А. Бердяев).
Время, метафора, ценность, море, у. шекспир, сонет
Короткий адрес: https://sciup.org/149148613
IDR: 149148613 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-207
Текст научной статьи «Морские» метафоры времени в сонетах У. Шекспира
Time; metaphor; value; sea; W. Shakespeare; sonnet.
Время, недоступное для восприятия органами чувств, непостижимое в своей онтологии, пронизывает все сферы бытия, являя на протяжении истории человеческого существования загадочную тайну, природу которой стремятся постичь философы и поэты, ученые и художники. Проблема времени привлекает особое внимание в переломные эпохи, в моменты повышенной культурной рефлексии, в периоды технологических, научных, социально-политических изменений. Образ времени оказывается способным «вбирать» и отражать изменяющиеся представления о главных вопросах бытия – человеке, его целях, ценностях и идеалах.
Для английской культуры подобным ключевым, переломным для восприятия времени периодом является эпоха королевы Елизаветы I (1533–1603 гг.). Великие географические открытия, развитие мануфактурного производства, становление нового типа экономических отношений, равно как и другие социально-экономические факторы, сопровождавшие переход от Средневековья к Новому времени, оказывают непосредственное влияние на формирование представлений о времени. Индивидуализм и рационализм, присущие мироощущению Ренессанса, рождают трагическое понимание ограниченности возможностей человека кратким мгновением настоящего [Гурочкина, Персинина 2009].
Ярким свидетельством пристального внимания ко времени, свойственного эпохе Ренессанса, является творчество У. Шекспира (1564–1616 гг.). Английскому драматургу дано было сочетать в своих произведениях «небывалое по грандиозности и торжественности понимание самоутвержденного на земле и стихийно-артистического человека» с чувством «ограниченности человеческого существа», его «беспомощности в преобразовании природы, в художественном творчестве и в религиозных постижениях» [Лосев 1978, 612]. У. Шекспир во всей полноте отразил парадоксальную сущность человека, конечного по своей внешней, телесной природе, и открытого вечности своей бессмертной душой.
Время не имеет отдельного таксономического класса именующих его языковых единиц. Ведущими инструментами осмысления и ословливания времени выступают метафора и метонимия – взаимосвязанные когнитивные механизмы и средства номинации. Метафора, основанная на аналогии, позволяет уподобить время, абстрактное по своей природе, конкретным, интуитивно более понятным сущностям – пространству, движению, предмету, живым существам. Метонимия, укорененная в ассоциативных связях смежных явлений, позволяет описать время посредством характеристик заполняющих его событий – действий, процессов, состояний. Метафорические и метонимические образы времени пронизывают речь во всех ее проявлениях, структурируя повседневное общение, научный дискурс, пространство художественного текста.
Цель настоящей статьи – исследование «морских» метафор времени в сонетах У. Шекспира. Море как зримый образ непостоянства видимого мира, символ вольных просторов и таинственных глубин бытия является одним из устойчивых топосов европейской литературной традиции. В творчестве У. Шекспира море становится не только местом развертывания событий или инструментом развития сюжетной линии, но особым лиминальным, «пограничным» хронотопом, в котором решается судьба героев и раскрывается их внутренняя суть [Mentz 2009]. Море входит в произведения английского драматурга и поэта неисчерпаемым источником аналогий, аллегорий, ярких метафор, неожиданных уподоблений, становясь неотъемлемым элементом образно-словесной ткани шекспировских текстов.
Феномен моря в творчестве У. Шекспира на протяжении более полувека представляет собой предмет литературоведческих изысканий [Falconer 1964; Mentz 2009; Brayton 2012; Womack 2025]. В значительно меньшей степени исследовано лингвистическое измерение «морских» образов, равно как и когнитивные механизмы сопряжения концепта моря и сложных, абстрактных областей опыта. Это и определило проблемное поле настоящей статьи, в которой на материале LX и LXV сонетов У. Шекспира исследуются особенности метафорического постижения времени сквозь призму «морских» реалий.
В LX сонете художественным выражением природы времени как нематериальной стихии, составляющей саму субстанцию жизни, становится начальный катрен, построенный как реализация концептуальной метафоры TIME IS A SEA / ВРЕМЯ – ЭТО МОРЕ:
Like as the waves make towards the pebbled shore, So do our minutes hasten to their end;
Each changing place with than which goes before,
In sequent toil all forwards do contend [Shakespeare’s Sonnets 1905, 83].
Первые два стиха вводят развернутое сравнение, уподобляющее минуты человеческой жизни (our minutes) волнам морского прибоя (waves), непрерывно набегающим на каменистый берег: Like as the waves make towards the pebbled shore, / So do our minutes hasten to their end (букв. «Подобно тому, как волны устремляются к галечному берегу, / Так наши минуты спешат к своему концу»).
Метафора минут-волн представляет собой преломление традиционного образа времени-потока . Известное со времен Гераклита (ср. его афоризм греч. πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει – «все движется и ничто не остается на месте»), это уподобление отражает понимание бытия как непрерывной череды сменяющих друг друга событий, подобных, но не тождественных. В европейской литературе метафора времени-потока закрепляется благодаря Овидию, использовавшего ее для создания философски обобщенного образа земной темпоральности в заключительной книге «Метаморфоз» (здесь и далее курсив принадлежит нам, если не указано иное – А.Б., в.Г., М.К.):
…Nihil est toto, quod perstet, in orbe.
Cuncta fluunt , omnisque vagans formatur imago;
Ipsa quoque adsiduo labuntur tempora motu, Non secus ac flumen ; neque enim consistere flumen Nec levis hora potest: sed ut unda inpellitur unda Urgeturque prior veniente urgetque priorem, Tempora sic fugiunt pariter pariterque sequuntur Et nova sunt semper ; nam quod fuit ante, relictum est, Fitque, quod haut fuerat, momentaque cuncta novantur (Ovidi Nasonis Metamorphoseon, Liber XV: 177–185) [Ovidi Nasonis 1914, 584].
…Постоянного нет во вселенной,
Все в ней течет – и зыбок любой образуемый облик. Время само утекает всегда в постоянном движенье, Уподобляясь реке; ни реке, ни летучему часу Остановиться нельзя. Как волна на волну набегает, Гонит волну пред собой, нагоняема сзади волною, –
Так же бегут и часы [лат. tempora – «времена»], вослед возникая друг другу ,
Новые вечно , затем что бывшее раньше пропало,
Сущего не было, – все обновляются вечно мгновенья [Овидий 1983, 415].
В английском переводе «Метаморфоз» А. Голдинга, к которому неоднократно обращался У. Шекспир [о влиянии Овидия на У. Шекспира см.: Walker 1860, 152–156; Booth 1977, 552], метафора времени-потока конкретизируется – латинское существительное flumen («река, поток») передается английским словом brook («ручей»):
In all the world there is not that that standeth at a stay.
Things eb and flow, and every shape is made too passe away.
The tyme itself continually is fleeting like a brooke .
For neyther brooke nor lyghtsomme tyme can tarrye still . But looke As every wave dryves other foorth, and that that commes behind Bothe thrusteth and is thrust itself: Even so the tymes by kind Doo fly and follow bothe at once , and evermore renew.
For that that was before is left, and streyght there dooth ensew
Anoother that was never erst. Eche twincling of an eye Dooth change [Shakespeare’s Ovid 1904, 298–299].
Заимствуя для сонета фрагмент созданной римским поэтом картины – образ волн, настигающих друг друга, У. Шекспир видоизменяет его. Линейная схема, лежащая в основании траектории движения реки, соотносится с идеей целенаправленности, осмысленности, причинности – река не перестает существовать при достижении своего устья, но становится частью чего-то большего – моря, океана. В сонете LX идея границы, актуализируемая существительным shore («берег»), сужает экстенсионал слова wave («волна»). Если у Овидия волны составляют единый поток, то У. Шекспир изображает их «дискретными», по отдельности достигающими кромку берега. Детализация, достигаемая за счет введения конкретно-вещественного определения pebbled («покрытый галькой»), максимально приближает изображаемое, давая картину прибрежного прибоя крупным планом, но нивелируя перспективу. Идея цели, актуализируемая предлогом towards («по направлению к…»), замыкается в самой себе: волны прибоя, достигая берега, видимым образом исчезают, растворяясь. Центральной оказывается семантика конца, предела, края, выражаемая словом-символом shore в первом стихе и прямозначным существительным end («конец») во втором стихе. Уподобление минут волнам отражает противоречивую природу времени: совокупное пространство времени, подобно морю, кажется бесконечным и не имеющим видимых границ – начала и конца, но частицы времени, как и волны, измеримы и конечны. Возникая из общей неосязаемой субстанции времени, как бы из «ниоткуда», они являют собой краткое мгновение «актуального настоящего», чтобы затем слиться с непостижимым морем вечности.
Категориальная семантика неопределенного неограниченного множества, актуализируемая подлежащими в параллельных конструкциях первого ( waves ) и второго ( minutes ) стихов, соотносится с понятием дискретности, с одной стороны, и однородности, с другой. В этом синкретичном единстве отдельности и тождества раскрывается природа мельчайших единиц экзистенциального времени. Мгновения, именуемые словом minutes (ср. исходное лат. minūtus «маленький, мелкий, ничтожный»), равны друг другу длительностью, но, будучи темпоральными знаками изменений, неповторимы по содержанию. Местоимение our ( our minutes – «наши минуты») конкретизирует, «персонализирует» минуты, предстающие не абстрактными мерами длительности, но частицами жизни конкретного человека – лирического героя и читателя. Игра смыслов, рождаемая омонимией our – hour [Ledger 2007], подчеркивает значительность каждой минуты, составляющей вместе с другими подобными мгновениями часы, дни и годы.
Вещественное существительное pebble ( pebbled shore ), указывающее на множество схожих по форме и размеру, но разных по цвету и рисунку камешков, символически отсылает к мозаике мгновений. Уникальные и единообразные одновременно, они составляют пестрое полотно жизни. Окатыши гальки напоминают не только о минутах, но и о последствиях их движения: гладко обточенные морской водой обломки горных пород являют собой метонимический символ времени в его необратимом, но постоянном воздействии на весь материальный мир.
Характер движения минут-волн раскрывает предикат второго стиха hasten , совмещающий динамическое значение «спешить» с каузативным значением
«подгонять, торопить». Указывающий на скорость б о льшую, чем требуется, глагол hasten актуализирует эмоциональные со-значения принуждения и сопротивления и связанную с ним отрицательную оценку. Обстоятельство цели to their end («к своему концу») высвечивает парадоксальность минут-волн. Суетливой быстротой своего движения они ускоряют собственное исчезновение, стремясь «к небытию, каждое мгновение, переставая существовать…» (Исповедь Кн. 11: 14) [Блаженный Августин 2013, 183].
Вторая часть катрена дополняет и уточняет аллегорическую картину волн-минут: Each changing place with that which goes before , / In sequent toil all forwards do contend (букв. «Меняясь местом с той, что идет впереди, / В последовательном изнурительном труде все, борясь, стремятся вперед»). Обстоятельственный причастный оборот третьего стиха отражает внутреннюю сущность самого явления времени. «Местом» ( place ), которое последовательно занимают вытесняющие друг друга волны-минуты, является краткое пространство настоящего, тогда как «все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым» (Исповедь, Кн. 11: 11) [Блаженный Августин 2013, 183]. Процессуальная семантика, присущая причастной форме сhanging («меняя(сь)»), оттеняет беспрестанный, безостановочный характер действия, не имеющего начала и не предполагающего конца.
Определение sequent («последующий, очередной») подчеркивает однообразную упорядоченность смены мгновений. Предикат contend («бороться»), характеризующий движение волн-минут, сочетает динамическое значение «старательно двигаться, решительно устремляться к чему-либо» с антагонистической семантикой противостояния. Восходящий к латинскому полисеман-ту contendere («натягивать; напрягать(ся); требовать; сражаться»), английский глагол contend актуализирует образ состязания, уподобляя минуты-волны соревнующимся соперникам, стремящимся обогнать друг друга. Мотив борьбы, насилия, напряжения усиливает лексема toil («изнурительный труд»), в которой сквозь основное значение длительной, однообразной, доводящей до изнеможения деятельности просвечивают исторически более ранние образы единоборства, раздора (ср. toile , XIII в., «схватка; битва; сумятица»). Наречие forwards («вперед») лишено, в отличие от однокоренного предлога первого стиха towards («к»), связи с конкретной целью, но указывает только на направление движения. Утратившее конечную перспективу, движение-состязание замыкается на самом себе, оказываясь напрасным, тщетным.
Эксплицируемое метафорами первого катрена душевное состояние лирического героя, испытывающего усталость от постоянной бесцельной борьбы, перекликается со стихами книги Екклесиаста, утверждающей трагическую суетность земного бытия. Ср. начальный фрагмент ее первой главы в известном У. Шекспиру переводе 1560 г. так называемой Женевской Библии: «Vanitie of vanities, sayth the Preacher: vanitie of vanities, all is vanitie. What remaineth vnto man in all his trauaile, which he suffereth vnder ye sunne? One generation passeth, and another generation succeedeth: but the earth remaineth for euer. The sunne riseth, and ye sunne goeth downe, and draweth to his place, where he riseth. <…> All the riuers goe into the sea, yet the sea is not full: for the riuers goe vnto ye place, whence they returne, and goe» (Ecclesiastes 1: 2–5, 7) [Geneva Bible 2025] – рус.: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. <…> Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь» (Еккл. 1: 2–5, 7). Подобно волнам моря в сонете LX, непрестанное движение речных вод к морю является одним из символов неизменности законов бытия, перед лицом которых человеческая жизнь – лишь «пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4: 14).
В следующем из рассматриваемых произведений – сонете LXV – концептуальная схема TIME IS SEA / ВРЕМЯ – ЭТО МОРЕ не формирует отдельного смыслового центра, но, сочетаясь с другими метафорическими образами, является элементом масштабной картины воздействия времени на весь видимый мир.
В основе начального катрена сонета лежит двойная антитеза:
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea
But sad mortality o’er-sways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower? [Shakespeare’s Sonnets 1905, 86].
В первой антитезе прочность, кажущаяся неуничтожимость материального мира, символизируемая однородными дополнениями brass («медь»), stone («камень»), earth («земля»), sea («море»), противопоставляется закону конечности земного бытия. Последний обозначен метонимически – абстрактным именем mortality («смертность»), указывающим на итог существования всего видимых вещей – смерть как предельное выражение всеобщего разрушения. В центре второй антитезы катрена – образ беззащитности красоты ( beauty ), лег-коразрушимость которой, подчеркиваемая сравнением с цветком ( no stronger than a flower ), противопоставляется, с одной стороны, кажущейся долговечности неизменных стихий природы, с другой – жестокости ( rage ) времени.
Тема противостояния красоты и времени развивается во втором катрене:
O, how shall summer’s honey breath hold out Against the wreckful siege of batt’ring days, When rocks impregnable are not so stout
Nor gates of steel so strong, but time decays? [Shakespeare’s Sonnets 1905, 86].
Метафтонимическое сочетание summer’s honey breath (букв. «медовое дыханье лета») совмещает присущие слову summer ассоциативные смыслы полноты раскрытия творческих начал жизни с мыслью о гармонии чистой и легко исчезающей радости, передаваемой синестезией honey breath . Совершенству красоты ( summer’s honey breath ) как идеалу противопоставляется стихия времени, описываемая метафорой wreckful siege of battering days (букв. «разрушительная осада разбивающихся [о стены / о камни] дней»).
Яркий авторский образ, эта окказиональная метафора являет собой синтез языковых элементов, соотносимых с двумя концептуальными моделями – персонифицирующей метафорой TIME IS AN ENEMY / ВРЕМЯ – НЕПРИЯТЕЛЬ и сопутствующей ей схемой TIME IS A RAGING SEA / ВРЕМЯ – БУШУЮЩЕЕ МОРЕ. Заимствованное из военной сферы существительное siege («осада») указывает на всестороннее, всепроникающее воздействие времени, приводящее к конечному истощению жизненных сил. Эпитет battering (to batter – «колотить, долбить») уподобляет ход времени действию стенобитных орудий (ср. battering ram – «таран»), направляющих свои удары на находящуюся в окружении крепость. Свойственные определению battering – причастной форме непредельного глагола – семы временной неограниченности сообщают создаваемой У. Шекспиром картине всеобщность, привнося ощущение почти трагической безысходности. Категориальная семантика недифференцированного множества, присущая словоформе days («дни»), соотносится с представлением о бесконечной череде тождественных дней-событий, неразличимых в своем однообразии, но необратимых по своим последствиям.
Эпитет wreckful ( wreck – «обломки погибшего судна»), описывающий результаты «осады» дней, осложняет военную метафору неожиданными «морскими» смыслами. Он высвечивает вторичное значение основы слова battering , связанное с образом морского прибоя; ср. пример подобного употребления в трагедии У. Шекспира «Перикл»: «She …swears she’ll never stint, / Make raging battery upon shores of flint » (Pericles, Act 4, Sc. 4) – рус.: «Мстить нам поклялась богиня / И бьет волнами берег наш поныне!» (пер. Т.Г. Гнедич). Перфективное определение wreckful актуализирует сложный комплекс идей, связанных с образом прошлого и действием памяти: подобно обломкам, представлявшим собой некогда корабль, земной мир с каждым днем все более отдаляется от своей первозданной красоты, и настоящее служит лишь напоминанием о прошлом.
Образы второй части катрена соотносятся с двумя метафорическими моделями, ословливаемыми эпитетом battering – непоколебимые скалы ( rocks impregnable ) в третьем стихе напоминают о бушующем море, стальные ворота ( gates of steel ) в четвертом – об осажденной неприятелем крепости. Двойной отрицательный союз not – nor («ни…, ни»), объединяющий два стиха, служит отсылкой к первому стиху сонета. Перекликаясь с троекратно повторяемым союзом nor , объединяющим цепочку слов-символов brass, stone, sea , он становится маркером экзистенциального отрицания, указывая на отсутствие в материальном мире чего-либо, способного противостоять разрушительному действию времени ( Time decays ).
Концептуальным основанием третьего катрена выступает персонифицирующая метафора TIME IS A THIEF / ВРЕМЯ – ПОХИТИТЕЛЬ:
O fearful meditation! where, alack,
Shall time’s best jewel from time’s chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid? [Shakespeare’s Sonnets 1905, 86].
Слово-символ jewel («драгоценный камень»), в смысловой структуре которого идея ценности метонимически обобщает семы красоты, уникальности, редкости и чистоты, становится в метафоре Time’s best jewel (букв. «лучшая драгоценность времени») иносказательным именем того, что составляет квинтэссенцию событийного наполнения времени – именем прекрасного. В более узком прочтении Time’s best jewel соотносится с идеей молодости – полноты проявления жизненных сил.
Слово chest («ящик»), сочетающее инструментальные семы «сохранность», «неприкосновенность» с мыслью об отсутствии света, удаленности от деятельного участия в жизни внешнего мира, может быть интерпретировано в метафоре Time’s chest (букв. «сундук времени») по-разному. Оно мо- жет служить образным обозначением абстрактной категории памяти, «удерживающей» все, что, однажды совершившись во времени, исчезает. С другой стороны, оно может служить эвфемистическим символом небытия, в котором скрываются со временем все предметы видимого мира. Амбивалентность времени – пространства, в котором осуществляется все прекрасное, и силы, уничтожающей все живое – оттеняется синтаксическим параллелизмом группы подлежащего (Time’s best jewel) и обстоятельства (Time’s chest).
Третий и четвертый стихи катрена конкретизируют образ времени-грабителя. Сочетание his swift foot (букв. «его быстрые стопы») – синекдоха, актуализирующая образ убегающего и тщетно преследуемого похитителя. Эпитет swift (ср. родственный глагол to sweep – «мчать(ся); увлекать») подчеркивает стремительность, внезапность и, одновременно, легкость, незаметность движения мгновений. Дополнение четвертого стиха his spoil of beauty (букв. «его разграбление красоты»), совмещающее идею незаконного присвоения чужого с мыслью о военных действиях, сопрягает метафорические схемы третьего (TIME IS AN ENEMY) и четвертого (TIME IS A THIEF) катренов. Слово spoil («добыча, трофеи»), напоминающее о жестоком обычае лишать бездыханного противника оружия и имущества, оттеняет грубую безжалостность воздействия времени, отнимающего видимую красоту ( beauty ) земного мира. Вопросительные местоимения where («где»), what («какая»), who («кто»), how («как»), входящие в состав риторических вопросов трех катренов сонета, подчеркивают тотальность проникновения временн о го начала во все сферы земной действительности.
Заключительные стихи, составляющие сонетный ключ, указывают на путь преодоления «смертельной печали времени» [Бердяев 1934, 23]:
O, none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright [Shakespeare’s Sonnets 1905, 86].
Лексема miracle («чудо») отсылает к Абсолютной ценности, указывая на вхождение в земную реальность иной, могучей силы ( might ), не подвластной времени как всеобщему состоянию вещного мира. Слова miracle и might , смысловая близость которых оттеняется аллитерацией, предваряют ключевое сочетание black ink (букв. «черные чернила»), метонимически обозначающее труд поэта. Антитеза темноты ( black ink ) и света ( shine bright ), соотносится с парадоксальной, двуединой природой человека. В телесной смертности, символизируемой черным цветом чернил, живет надежда, присущая нескончаемой жизни духа, устремленного к вечному не-сотворенному Свету.
Проведенное исследование позволяет заключить, что море – видимый символ непостижимой изменчивости бытия – служит в сонетах У. Шекспира устойчивым источником аналогий для осмысления различных граней темпоральности. Уподобление минут волнам отражает в сонете LX парадоксальную сущность времени: кажущееся беспредельным в своей полноте, оно конечно и невосполнимо в каждой своей мельчайшей частице. Метафора бушующего моря в сонете LXV является частью масштабной картины всеобщего разрушения, причиняемого действием времени. Неумолимому закону конечного исчезновения материального мира У. Шекспир противопоставляет свободный дар творчества, в котором преодолевается раздробленность прошлого, настоящего и будущего и становится возможной «победа над властью времени» [Бердяев 1935, 33].