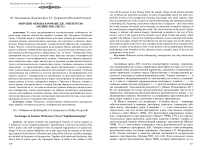Морские образы в романе Дж. Уинтерсон «Хозяйство света»
Автор: Владимирова Наталия Георгиевна, Куприянова Екатерина Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются поэтологические особенности образов моря, морских обитателей, корабля в романе Дж. Уинтерсон «Хозяйство света». Сохраняя память о приобретенных в истории литературы значениях и наполняясь новыми символическими смыслами, они участвуют в процессе трансгрессии. Роман буквально проникнут художественной образностью, связанной с морем. Вместе с интертекстуальными включениями образы морской стихии образуют особенное онейрическое пространство, типологическим признаком которого является синтез реального с ирреальным. Так, Ам Парве - Поворотная Точка, приморский поселок Сольт и морской город Бристоль описаны топографически точно и вместе с тем метафорически условно. Совокупность образов, определяемых концептом моря, играет важную роль в создании художественной антропологии и антропокосмологии, символизируя жизнь, становясь синонимом судьбы персонажей - их представлений о мире, памяти (исторической и экзистенциальной), художественно-условным аналогом постигающего мир сознания. Отмечена спациализация как особенность поэтики произведения и мотивированный этим перенос акцента с темпоральной его организации на пространственную. Онейрическое пространство, определяемое морем, акцентировано интертекстуальным пересозданием легенды и рыцарского романа о Тристане и Изольде, которые в тексте романа Уинтерсон вместе с оперой Вагнера образуют палимпсестную аллюзию. Несмотря на то, что море не является в романе объектом непосредственного изображения, спектр определяемых им образов способствует расширению смысла повествования, созданию картины мира, выполняя разнообразные поэтологические функции, участвуя в организации персонажной системы, смыслового пространства текста и спациопоэтики романа.
Уинтерсон, художественная антропология, трангрессия, море, корабль, интертекстуальность, онейрическое пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149139961
IDR: 149139961
Текст научной статьи Морские образы в романе Дж. Уинтерсон «Хозяйство света»
Английская проза XXI столетия демонстрирует новизну, определяемую инновациями не только в привычных категориях поэтики, но и в происходящей смене художественной парадигмы, связанной с изменениями в самих принципах создания текста. Представление о художественной реальности дополняется новыми разновидностями. Ученые отмечают: «...в современном литературоведении (и лингвистике) на отчасти устоявшиеся и в чем-то ставшими традиционными категории и понятия <...> наложилась новая система координат <...>, ведется активное исследование так называемой “дополненной реальности”» [Исаев, Владимирова 2017, 8], что затрагивает не только хронотопическую организацию текста, но и привычные темпорально-пространственные разновидности наряду с появляющимися новыми. Изменяются и сложившиеся архетипические образы (море, корабль и др.), включаясь в процесс трансгрессии.
Ж. Женетт отмечает, что литература - и вообще мысль - «выражает себя исключительно в терминах дистанции, горизонта, универсума, пейзажа, места, ландшафта, дорог и жилища; <...> язык становится пространством, для того чтобы пространство в нем, став языком, говорило и писало о себе» [Женетт 1998а, 132]. Констатируя современную тенденцию «очарованности пространством» [Женетт 1998b, 279] и его предпочтительности перед временем, известный теоретик отмечает «скорее се-миологический, нежели символический характер» пространства [Женетт 1998а, 131]. С этим связано появление в тексте разновидностей так называемых «мнимых» пространств. В.Н. Топоров относит к ним сновидения, мистический транс, состояния дивинации. Апеллируя к П. Флоренскому, Ю.М. Лотман отмечает в качестве важной «возможность изображения мнимого пространства» [Лотман 2005, 443-444]. Фуко использует номинацию «другие пространства» [Фуко 2006], которые ориентируют, по за-
мечанию В.Н. Топорова на «правила <...> чтения сквозь пространственность» [Топоров 1983, 281].
Известный польский теоретик Е. Фарино дает терминологическое обоснование онейрического пространства, включая в него мифологические пространства, зеркало и другие, в том числе и водные, отражающие поверхности, различные формы интертекстуальности, так называемые «пространства-изображения» - «пространства музыки», «внутреннего мира памяти», подсознания, которые ранее считались «непространственными явлениями», а также сравнительно мало изученное пространство текста как особую разновидность спациопоэтики [Фарино 2004, 376]. Г. Башляр использует определения «онирическая глубина», «онирический фон», «онейрические свойства» семиотики пространства, апеллируя к «топониму чувства и антропокосмологии» [Башляр 2004, 32, 34]. Их определяющим признаком становится неслиянность / нераздельность (М. Бахтин) художественно-реальных и ирреальных образов.
Семиотика моря и корабля имеет в английской литературе древние корни и не случайно занимает особое место в художественном сознании писателей, поскольку Англия изначально - морская держава. Джонатан Рабан заметил: «Даже самый сухопутный носитель английского языка склонен бессознательно разговаривать терминами, которые берут свое начало в море» [Raban 1993, 7].
Воссоздавая историю Лондона, П. Акройд констатировал: «В начале было море», «...пятьдесят миллионов лет назад на месте <...> столицы действительно гуляли морские волны» [Акройд 2009, 27]. Не удивительно, что «водная стихия и поныне напоминает о себе следами, оставленными ею на древних камнях Лондона» [Акройд 2009, 27]. «Морской след» прочитывается не только в виде вкраплений доисторических ракушек, сохранившихся на стенах Британского музея, резиденции лорд-мэра и постаментах памятников, он оживает на страницах современной английской прозы, приобретая самые разнообразные смысловые проекции. Всеохватывающий характер морской стихии со времен кельтской старины и до современности содержит многообразие семиотических значений, пополняющихся в современной прозе новыми.
Роман «Хозяйство света» Дж. Уинтерсон с полной уверенностью можно назвать «морским» романом, его страницы буквально «пропитаны» присутствием моря. Образы водной стихии участвуют в создании художественной антропологии, определяя поэтологическую структуру произведения. Океан - образный аналог внутреннего мира персонажей: «Две Атлантики: одна за стенами маяка, другая - внутри меня», - говорит главная героиня романа [Уинтерсон 2006, 44].
Море, не являясь объектом непосредственного изображения, становится своеобразным полисемантическим онейрическим пространством, представленным в разнообразии семиологических художественных форм и функций, оно доминирует в мифологическом, шире - интертекстуальном пространстве, в пространстве памяти, видений, снов, приобретая ши- рокий спектр смысловых значений. Обобщая, можно заметить, что оно «играет роль семиотического индикатора» [Лотман 1996, 339].
Присутствует море и в художественной реальности. С ним связаны топографически скупо обозначенные пространственные реалии романа. Основные события разворачиваются, как указывается в тексте, «на северо-западной оконечности Шотландии», в пустынной местности, которая на гэльском языке называется Ам Парве - «Поворотная Точка», а также в приморском поселении Сольт и в морском городе Бристоль. Дж. Уинтер-сон отмечает неслучайность выбора названий и имен, играющих важную роль в спациопоэтике произведений: «Имена - это места, где вы делаете паузу. Это места, которые вы узнаете, места, которые сообщают вам нечто о том, где вы находитесь. Они не случайны. Будь то люди, государства или ситуации» (перевод наш - Н.В., Е. С.) [Tucker 2005; Winterson 2005, 5]. Топонимы описываются двояко: реалистически достоверно и метафорически-образно: родной городок Сольт представляется Сильвер подобием окаменелостей, «выплюнутой морем, изгрызенной скалами, отделанной песком скорлупкой» [Уинтерсон 2006, 20]. Аналогично изображен и главный образ-символ романа - маяк у мыса Гнева, немыслимый без моря и образующий с ним устойчивую оппозицию. Особую семантическую вы-деленность образ моря приобретает и в интердискурсивном пространстве текста в связи с дарвиновской теорией, согласно которой оно мыслится жизнепорождающей стихией.
Рассказываемые истории моряками и о моряках, связанные с перипетиями морских плаваний (сквозной лейтмотивный призыв романа: «Расскажи мне историю...» [Уинтерсон 2006, 184]), вносят в произведение присутствие морской стихии в качестве константы. Однако, как ни парадоксально, но в непосредственном сюжетном развитии произведения нет ни описания морских путешествий, ни корабля как центрального топоса сюжетообразующих событий. Нацеленность повествования на исследование ментальных процессов порождает примечательный пример трансгрессии исходных семиотических образов, предстающих в новом качестве - метафор сознания, совершающего свои мнемонические путешествия. В этой связи претерпевает изменения и хронотопическая организация произведения: акцент с темпоральных координат переносится на пространственные образы, связанные с морем и переосмысленные сознанием персонажей. Вавилон Мрак «очнулся от страшного сна и оказался в страшной яви <.. .>. Было рано. <...> Он пустил свое сознание в дрейф по морю и представил, будто рядом с ним лежит Молли...» (здесь и ниже выделено нами - Н.В., Е.К.) [Уинтерсон 2006, 93]. Когда Молли «спала или оставалась одна, а дети затихали, ее сознание морем разливалось вокруг него. Он всегда был рядом. Ориентир для ее корабля» [Уинтерсон 2006, 130].
Как и мыс Гнева, реально существующая «Поворотная точка» описана в романе топографически точно и детально: «Здесь пролив Пэтлэнд-Форт встречается с проливом Минч, на западе виднеется остров Льюис, на востоке Оркнейские острова, а к северу остается только Атлантический

океан» [Уинтерсон 2006, 29]. Вместе с тем она становится обобщенным, семантически насыщенным символом, включающим многое - человеческую судьбу, «повороты сознания», «символ Вселенной - единой безграничной системы памяти» [Уинтерсон 2006, 179, 201]. Жизнь на маяке на мысе Гнева - пространстве Поворотной точки - вырабатывает у Сильвер «Второе Зрение», размыкающее условные границы текущего момента. Второе зрение - это дар, далеко не каждому данное умение видеть прошлое, как недавнее, так и уходящее в античные гомеровские времена, а также и в будущее. Только настоящее для Сильвер - во мраке. Оно характеризуется через образность морской стихии: «Волна разбивается, подступает другая». Настоящее - между ними, оно неуловимо, «везде, как море» [Уинтерсон 2006, 70].
Море доминирует и в представлениях персонажей об антропокосмологии: «Маленьким он (Мрак - Н.В., Е.К.) часто воображал, что небо - это море, а звезды - огни на корабельных мачтах» [Уинтерсон 2006, 177]. После расставания с Молли Мрак видит «погасшие небеса», уподобляемые «мертвому морю» и окаменелостям.
В контексте морской образности осмыслены жизни и судьбы персонажей, создающие своеобразную картину художественной антропологии: «Моя жизнь, - говорит Сильвер, - след кораблекрушений и отплытий. Нет ни прибытий, ни пунктов назначения; есть только песчаные отмели и обломки кораблей; затем - новая лодка, новый прилив» [Уинтерсон 2006, 157]. Героиня романа задается вопросом: «...что из вашей жизни утонет в волнах, а что, словно маяк, позовет вас домой?» Море символизирует межличностные связи людей в самом широком смысле: «Все мы связаны воедино - приливами, лунным притяжением, прошлым, настоящим и будущим на изломе волны» [Уинтерсон 2006, 162].
Каждая из историй персонажей романа так или иначе связана с морем, или же осознается в метафорической образности, апеллирующей к его составляющим: «Мой отец, - рассказывает Сильвер, - вышел из моря и исчез там же. Он работал на рыбацком судне, которое нашло приют в нашей гавани однажды ночью, когда волны темным стеклом разбивались о берег. Расколовшаяся посудина выбросила его на мель, и он успел только зацепиться якорем за маму. Косяки мальков боролись за жизнь. Победила я» [Уинтерсон 2006, 17].
Море включает в роман и оппозиционную символику, связанную с угасанием жизни и смертью. «В Англии и в Ирландии море - единственный объект дикой природы, где человек еще может почувствовать себя маленьким и одиноким во всей широте Творения», - отмечает Джонатан Рабан [Raban 2005, 15]. Волны в системе своеобразной поэтики романа становятся знаком дифракции персонажа, его жизни, судьбы человека, утратившего самоидентификацию, потерявшего самого себя, ставшего чужим в собственной жизни [Уинтерсон 2006, 91]. Вспоминая Молли, Мрак говорит: «Да, нас было двое, но мы были едины. Я же расколот огромными волнами» [Уинтерсон 2006, 200].
Водораздел между прежней жизнью, наполненной любовью к Молли, и безрадостным существовании в Сольте также определяется морем. Водная граница, согласно кельтскому эпосу, отделяет земное пространство от Иномирного. Само поселение в «мертвом» городе (Сольте) с последующей вскоре женитьбой на нелюбимой женщине мыслится символическими похоронами, которые добровольно совершает, наказывая себя, утративший любовь Мрак. Не случайно, начиная с момента отплытия из Бристоля, Мрак появляется только в черном. Процесс умирания души передается через метафорический образный ряд, связанный с морем.
Финал жизни Вавилона Мрака - самоубийство - мыслится как символическое «возвращение» в море, к началу бытия, к Молли: «Он был наг и хотел медленно войти в море и не вернуться. С собой он взял бы только одно - морского конька. Они поплыли назад сквозь время, сюда же, только перед Потопом» [Уинтерсон 2006, 152]. Образ моря, корреспондируясь с «текущими водами», наполняется символическим значением. Теоретик Барселонской школы X. Кирло называет море «промежуточным и переходным посредником» между жизнью и смертью. «Таким образом, воды океана, - пишет испанский искусствовед, - воспринимаются не только как источник жизни, но также и как цель. “Возвратиться в море” означает “вернуться к матери”, то есть умереть» [Кирло 2010, 277].
Эпизод самоубийства, структурно «растянутый» в романе на несколько глав, повторно воссоздается через ощущения и мысли, фиксируемые сознанием, отправляющимся в последнее морское путешествие. Уход Мрака являет собой завершение символического круга жизни, означенного эпиграфами романа. В самое начало романа, в сильную позицию текста автор помещает два, казалось бы, взаимоисключающих эпиграфа, выделенных курсивом. В одном из интервью Дж. Уинтерсон комментирует их смысл: «Вы могли заметить, что в моем романе есть два эпиграфа. Это слова глубоко мною любимых и уважаемых писательниц - Мюриэл Спарк и Али Смит. Первый эпиграф гласит: “Помни, ты должен умереть”, а второй: “Помни, ты должен жить”. Это противоречие, на мой взгляд, и демонстрирует интенсивность подлинной жизни. Оно же говорит о том, что я делаю как писатель - я соединяю несоединимое, рассказывая истории» [Уинтерсон 2006, 13].
В целом и вся система сравнений, аналогий, семиотики, метафорики романа базируется на морской образности. Жена Мрака - «тусклая, словно день у безветреннего моря» [Уинтерсон 2006, 76]. В отличие от его возлюбленной Молли О’Рурк, она представлена без имени, поскольку имя, согласно замечанию автора, обладает магической силой.
С первых страниц произведения появляется образ-символ мертвой раковины, от которой осталась лишь «выскобленная» скорлупа. Сначала он может быть прочитан как метафора Сольта - города, из которого «ушла жизнь» [Уинтерсон 2006, 40]. Этот же образный ряд используется, чтобы передать самоощущение Мрака, которого опустошают страх и ревность, когда он увидел Молли в объятьях другого мужчины: «Городок стал по-
лым, из него выскоблили жизнь. Остались ритуалы, обычаи и прошлое, но ничего больше в нем не жило» [Уинтерсон 2006, 40]. Мертвая раковина -это и окаменелость, с образом которой сопряжен научный дискурс, вводящий в роман концепцию мироустройства Чарльза Дарвина. И, наконец, образ мертвой раковины снова фиксируется сознанием Сильвер: «Отними жизнь и останется лишь скорлупка» [Уинтерсон 2006, 136]. Использованный на этот раз в расширительном контексте, образ приобретает характер комплексной метафоры, которая связывает несколько сюжетных линий: историю упадка Сольта, трагедию Мрака, личную историю Сильвер, которая из-за автоматизации маяка вторично лишается дома.
Претерпевает изменения и образ морского конька, отражая динамику внутренних переживаний Мрака. Вначале он - «хрупкий, невозможный, однако ликующий среди волн». Молли звала его «морской конек»: «Морская пещера и морской конек. Такая у них была игра. Их водная картина мира» [Уинтерсон 2006, 106]. После расставания с Молли морской конек идентифицируется с найденной в скалах окаменелостью, которую Мрак всегда носил с собой. Теперь это - символ омертвевшей души, «его символ утраченного времени» [Уинтерсон 2006, 226].
Художественное единство и смысловая многозначность романа создается не только с помощью семиотически разнообразных образов моря и связанных с ними образов обитателей морских стихий, их метафорических, символических проекций, но и лейтмотивных образов корабля, обросших за длительную историю существования в литературе разнообразием символических значений (серебряный, стеклянный или хрустальный корабль, на котором совершались морские иномирные путешествия в вечную страну Желания и Блаженства, корабль - государство [Рис, Рис 1999], церковь, мир; в «Ритуалах плаванья» У. Голдинга - это иронически сниженный синоним райского сада, театра (пространства воображения); в романе Гр. Норминтона «Корабль дураков» модернизирующий средневековый дух гротескного реализма образ корабля и др.).
Как и море, корабль, не будучи непосредственной площадкой разворачивающихся сюжетных событий, присутствует в рассказах персонажей, снах, картинах сознания, являя собой сложный семиотический образ и своеобразное онейрическое пространство. Сквозные образы моря и корабля, живущие в воображении и сознании персонажей, служат для читателя путеводной нитью в лабиринте смыслов.
В трангсгрессивной художественной модели корабля сплавились воедино традиционная символика (например, мотивы путешествия по морю жизни в размышлениях Сильвер: «Моя жизнь - след кораблекрушений и отплытий. Нет ни прибытий, ни пунктов назначения; есть только песчаные отмели и обломки кораблей; затем - новая лодка, новый прилив» [Уинтерсон 2006, 157]), авторская фантазия, многочисленные аллюзии - от Ноева Ковчега («точка памяти над временем», [Уинтерсон 2006, 156]) до Летучего Голландца (вечный морской скиталец, который никогда не пристанет к берегу). Смысловая доминанта образа корабля, мерцающего сим- волическими смыслами, аллюзивными, образными проекциями, связана и с особым восприятием времени. Свободный, жестко не детерминированный выбор даты отсчета начала повествования замыкает время на бесконечность: «...конца не бывает» [Уинтерсон 2006, 72], конца нет - «всегда виден корабль, что никогда не причалит к берегу. Но мы все равно должны видеть корабль...» [Уинтерсон 2006, 179]. Время в романе, воплощая идеи М. Планка и А. Эйнштейна («теперь время следовало понимать математически»), утрачивает линейность и стремится к одновременности бытования прошлого, настоящего и будущего. Настоящее предстает как неясный, не осмысленный сознанием разрыв в промежутке и смене набегающих волн.
Одним из важных лейтмотивных образов, играющих определяющую роль в смыслопорождении романа, является образ «корабля с кораблем внутри» - своеобразная метафора существования прошлого в настоящем: «Двести лет назад построили бриг под названием “Макклауд”, и порчи в нем было не меньше, чем парусов». «В тот день, когда его спустили на воду, все на причале увидели, как из корпуса нового корабля вырастают рваные паруса и сломанный киль старого “Макклауда”. Это корабль с кораблем внутри <.. .> и в штормовую ночь можно увидеть, как над верхней палубой “Макклауд” дымкой висит старый “Макклауд”» [Уинтерсон 2006, 69]. «Макклауд» становится синонимом памяти и символом прошлого, спрятанного в пространстве нового, будущего корабля [Уинтерсон 2006, 179].
В то же время образ «корабля с кораблем внутри» служит емкой метафорой раздвоенной личности, представляется наглядной «визуализацией» раздвоенного существования. Так реализуется автором одна из проекций аллонимности. Экзистенциалистская оппозиция Я - Другой обретает внутреннюю проекцию как сложный процесс перерождения души, завершающейся трансформацией Я в иного, чужого по отношению к себе прежнему.
Не случайно рассказ Пью о «Макклауде» звучит аккомпанементом к разворачивающемуся сюжету о двойной жизни Мрака (история с Прайсом), и далее «Макклауд» с рваными парусами станет символом теневой части натуры Мрака: «...всякий раз, когда они любили друг друга, <...> он вновь слышал колокол, и чуял, как скелет корабля с рваными парусами подходит все ближе» [Уинтерсон 2006, 105-106]. Образ «Макклауда» ал-люзивно усиливается корреспондированностью с повестью Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде [Стивенсон 1981].
Интертекстуальность наряду с интердискурсивностью и органичным включением риторического дискурса в художественное повествование становятся у Дж. Уинтерсон характерными чертами прозы и текстового онейрического пространства. Соединяясь с морской образностью, пересоздаваемой автором, интертекстуальные включения придают ей вариативность и художественное разнообразие семиотических ракурсов.
Список литературы Морские образы в романе Дж. Уинтерсон «Хозяйство света»
- Акройд П. Лондон. Биография. М.: Издательство Ольги Морозовой, 2009. 896 с.
- Башляр Г. Избранное: поэтика пространства. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 376 с.
- (а) Женетт Ж. Пространство и язык // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. Т. 1. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. C. 126-132.
- (b) Женетт Ж. Литература и пространство // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. Т. 1. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. C. 278-283.
- Исаев С.Г., Владимирова Н.Г. Актуальная поэтика: смена художественной парадигмы. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2017. 482 c.
- Кирло Х. Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории / Пер. Ф.С. Капицы, Т.Н. Колядич. М.: Цен-трполиграф, 2010. 525 с.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 c.
- Лотман Ю.М. К проблеме пространственной семиотики // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство - СПБ, 2005. С. 442-444.
- Михайлов А.Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и Изольде. М.: Наука, 1976. С. 623-698.
- Рис А., Рис Б. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе / Пер. Т. Михайловой. М.: Энигма, 1999. 480 с.
- Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. М.: Правда, 1981. 494 с.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227-284.
- Уинтерсон Дж. «В основе искусства лежит оптимизм...» (Беседа с Натальей Поваляевой). URL http: //novsu.ru/file/727866 (дата обращения: 04.04.2022)
- Уинтерсон Дж. Хозяйство света. М.: Эксмо, 2006. 320 c.
- Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 639 с.
- Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления, интервью. Часть 3 / Пер. В.П. Большакова, М.: Праксис, 2006. С. 191-204.
- Raban J. The Oxford Book of the Sea. Oxford: Oxford University Press, 1993. 544 p.
- Tucker L. From Innocence to Experience: Louise Tucker talks to Jeanette Winterson // Winterson J. Lighthousekeeping. London: HarperCollins, 2004. P. 2-14.
- Winterson J. Lighthousekeeping. London, New York: Harcourt, 2005. 240 р.