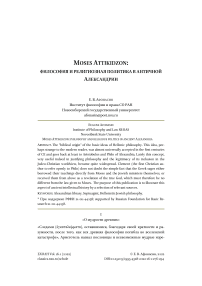Moses Attikidzon: философия и религиозная политика в античной Александрии
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Переводы
Статья в выпуске: 1 т.16, 2022 года.
Бесплатный доступ
“Библейское происхождение” основных идей эллинской философии. Эта идея, возможно, странная для современного читателя, была практически общепринятой в первые века нашей эры и восходит, по крайней мере, к Аристобулу и Филону Александрийскому. Одним из основных протагонистов этой концепции, действительно очень полезной для оправдания философии и обоснования правомерности включения ее в иудейско-христианское мироучение, следует считать Климента Александрийского, который не сомневается в том простом факте, что греческие мудрецы или позаимствовали свои учения непосредственно от самого Моисея и иудейских служителей, или же получили его свыше как откровение истинного Бога, которое поэтому не должно отличаться от закона, данного Моисею. Статья дополняется подборкой источников, иллюстрирующих историю перевода Библии на греческий язык.
Александрийская библиотека, Септуагинта, эллинистическая иудейская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147237635
IDR: 147237635 | DOI: 10.25205/1995-4328-2022-16-1-276-294
Текст научной статьи Moses Attikidzon: философия и религиозная политика в античной Александрии
* При поддержке РФФИ 21-011-44058; supported by Russian Foundation for Basic Research 21-011-44058.
I
«О мудрости древних»
«Следами (ЕухатаХефрата), оставшимися, благодаря своей краткости и разумности, после того, как вся древняя философия погибла во вселенской катастрофе», Аристотель назвал пословицы и всевозможные мудрые изре-
чения (Аристотель, фр. 8 Ross, Синесий, Encomium calvitii («Похвала безволо-сости» 22.85с). Действительно, что такое мудрость? Развивая мысль Аристотеля, Филопон (Комментарий к Введению в арифметику Никомаха 1.1) замечает, что этимологически мудрость (софта) связана с ясностью (сафета) и светом (фй?). Именно по этой причине люди считают мудростью «то знание, которое выводит их на свет», и понимать это можно, в согласии с «древними», пятью способами.1 Во-первых, после каждой глобальной катастрофы,2 лишившимся вести цивилизованный образ жизни людям вновь приходится осваивать самое необходимое, и они называют «мудростью» те навыки, которые для этого необходимы, а мудрецами, соответственно, тех, кто этими навыками обладает. Затем, «по подсказке Афины», они открывают искусства, то есть такие ремесла, которые призваны не только обеспечить существование, но и сделать его красивым и изящным. Разве не для этого с древнейших времен люди украшали предметы обихода, что прекрасно демонстрируют даже древнейшие образцы керамики? Далее, вполне в духе мифа Протагора из одноименного диалога Платона, они (разумеется, также при помощи божества) решили упорядочить общественную жизнь и создали «законы, связующие полис». Эти познания они также по праву назвали мудростью. Именно этим прославились семь мудрецов, постигшие политическую добродетель.3 В-четвертых, они обратились к изучению окружающего их мира и создали то, что можно называть наукой о природе, а ученых людей, получивших это знание, также назвали мудрыми. Наконец, в-пятых, «они приложили это слово к божественному, надмирному и совершенно неизменному, и назвали это знание высшей мудростью».
Спустя столетия позднеантичную версию этой же идеи христианский автор конца второго века Климент Александрийский ( Строматы 1.72.4) формулирует так. По его представлению, носителем этой последней «высшей мудрости», стал еврейский народ, - именно так полагают «пифагореец» Филон, «перипатетик» Аристобул и многие другие, «перечислять которых здесь неуместно». Следует, однако, заметить, что кроме Филона Александрийского, знаменитого иудейского теолога первого века н. э., который, очевидно и стал для Климента источником,4 и во многом загадочного Ари-стобула об иудейских писателях мало что известно, так что Климент при всем желании не смог бы никого «перечислить». Правда, мысль эта встречается и у историка Мегасфена, который в сочинении Об индусах пишет следующее: «Все, сказанное древними о природе, было уже ранее высказано неэллинскими философами, отчасти индийскими брахманами, отчасти так называемыми сирийскими евреями» (там же, 1.72.4). Все эти теории далее, разумеется, подкрепляются многочисленным и довольно фантасмагорическими списками «заимствований», которые занимают значительную часть пятой и шестой книг Стромат , полезными разве что в качестве источника цитат из тех поэтов, историков и философов древности, сочинения которых до нас не дошли.5
Но речь сейчас не об этом. Как видно из свидетельства Климента, которое подтверждается и другими данными, в основном из Евсевия Кесарийского, Аристобул, которого Климент из стремления к школьной филиации всех мыслителей, называет перипатетиком, был самым ранним иудейским писателем, развивавшим идею о древности библейского учения, возможно, ее автором. Исследовательский консенсус в настоящее время более или ме- нее согласуется с тем, что пишет Климент, который датирует время жизни Аристобула вторым веком до н. э. и считает его александрийцем.6
Более специфично, согласно Клименту, Аристобул утверждал, что «из закона и пророков заимствована перипатетическая философия» ( Строматы 5.97.7). К сожалению, мы не знаем, на какие черты перипатетической традиции он обратил особое внимание. Зато о Платоне он высказывается более определенно. Именно, по его мнению, автору величайшего политического проекта античности было чему поучиться у иудейского законодателя:
Аристобул в первой книге своего сочинения К Филометру пишет: «Платон также следовал началам нашего законодательства. И очевидно, что он самым внимательным образом вникал во все его подробности... Равным образом и Пифагор многое позаимствовал у нас для своего учения» ( Строматы 1.150.1).
И в другом месте:
Все они вместе, и Пифагор, и Сократ, и Платон в один голос говорят, что слышали глас Бога, когда созерцали процесс сотворения всего сущего, созданного и непрерывно поддерживаемого Богом. Но они, видимо, слышали слова Моисея: «Он сказал и возникло», ведь таким именно образом описал он божественное творение словом ( Строматы 5.99.1).
Более того, Климент обращается к неопифагорейскому философу Нуме-нию из Апамеи, между прочим, единственному современному ему автору, которого он удостаивает упоминанием, и вкладывает в его уста ставшее впоследствии знаменитым изречение о Платоне. Контекст рассуждения самого Нумения сохранил Евсевий (Нумений, фр. 8 des Places, Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 10,12-14):
«Коль скоро бытие вечно все целиком и неизменно, и совершенно никоим образом не выходит из себя, но пребывает тем же и остается таким же, то это и есть то, что “разум постигает с разумением” (vo^asi цета Асуси KspiX^KTOv). Если же тело -это поток и подвержено моментальным изменениям,7 то оно погибает и больше не существует. Не будет ли, следовательно, величайшей глупостью отрицать, что оно есть нечто неопределенное и может быть постигнуто лишь мнением или, говоря словами Платона, “возникает, гибнет и в действительности никогда не суще- ствует”».8 Так говорит Нумений,9 ясно истолковывая как учение Платона, так и более древнее учение Моисея. Значит, по справедливости ему приписывают следующее изречение: «Кто есть Платон, как не Моисей, говорящий на аттическом наречии? (Т yap sori Платов ^ Мша^р атлх^шу’;)»
Непосредственным источником для Евсевия в этом случае является Климент, однако маловероятно, что само изречение происходит из трактата Ну-мения О благе , который цитирует здесь Евсевий. Скорее всего, это изречение (Xoyiov) во времена Нумения было чем-то вроде поговорки и принадлежит вовсе не ему, а скажем, тому же Аристобулу или какому другому иудео-христианскому экзегету. Возникает вопрос: каким образом, Пифагор, Сократ, Платон и другие античные философы смогли ознакомиться с учением Моисея? Первый источник - это, возвращаясь к Аристотелю, «следы» древней мудрости, общие для всех народов и в скрытом виде содержащие знания о мироустройстве и человеческом обществе. Но кроме этого Аристобул предполагает существование некоего древнего перевода Библии на греческий язык, о котором никаких сведений не сохранилось.10 Примечательно объяснение причины этого умолчания, которое иначе неизвестный Аристей приписывает Деметрию Фалерскому ( свид. 2, ниже). Это, якобы, произошло потому, что всякого, публично рассуждающего об иудейском законе и библейских персонажах, подобно нарушителей таинства мистерий, ожидает неминуемое наказание. Ситуация изменилась лишь с появлением «авторизованного» перевода Библии, Септуагинты, о котором далее пойдет речь.
II
Античные источники о древности еврейского учения и переводе Библии на греческий язык
Основанный Птолемеем I Сотером Мусей в Александрии уже в древности всем казался воплощением того учебного и образовательного проекта, который инициировал Платон и успешно продолжил Аристотель.11 Кроме того, скорее уже в восточном ключе, организация александрийского научного центра преследовала и политические задачи, связанные как с престижем новой египетской администрации, так и с вопросами эффективности управления страной. Должно быть первый Птолемей основал и ключевой для последующей религиозной истории Египта культ Сераписа, который также был призван сыграть важную роль в политической пропаганде.12
Мусей, то есть храм Муз, располагался непосредственно в царских дворцах в квартале Брухейон. По сообщению Страбона, который мог видеть его лично, Мусей римского периода представлял собой большое помещение, в котором, среди всего прочего, находился обеденный зал, а также крытая галерея, экседра (Страбон, География 17.1.8), что напоминает устройство Афинских философских школ, прежде всего, Академии. Из сообщения Страбона, по-видимому, следует, что отдельного здания библиотеки не было и все собрание так или иначе размещалось в Мусее.
Храм Сераписа был построен при Птолемее II Филадельфе (308-245 до н. э.) и его сыне Эвергете (246-222/1 г. до н. э.) в юго-западном районе Александрии Ракотис. Именно здесь затем расположилась «малая» библиотека, которой довелось пережить основную.13 О том, что эта библиотека бы- ла создана несколько позже, можно заключить из ряда античных свидетельств, абсолютное большинство которых оставлено иудео-христианскими авторами, так как главным предметом их обсуждения был уникальный по своей масштабности проект перевода Библии на греческий язык под руководством Деметрия Фалерского.14 Так, неизвестный автор I в. до н. э. Аристей в своем Письме Филократу 9-11 (свид 2), отмечает, что Птолемей Филадельф поручил Деметрию Фалерскому расширить царскую библиотеку, собрав в Александрии «все книги мира», а Иоанн Цец (свид. ib., Prolegomena de comoedia Graeca, Prooemium II, SA Xia II, 1.1A.32.2-11 Koster), упоминает в качестве места хранения этих собраний две библиотеки: одна, расположенная «снаружи»15 и включающая в себя 42800 книг, а другая, находящаяся «внутри» царского дворца и являющаяся местом хранения 400 тыс. книг «смешанных» и 90 тыс. «не смешанных» и простых, о чем, по сообщению христианского хронографа, можно узнать из «Таблиц (pinakes)» Каллимаха. Цифры достаточно произвольные, и нет никакой возможности проверить их достоверность, однако ясно, что в обоих случаях библиотеки пополнялись систематически и при постоянной поддержке со стороны царя. Можно предположить, что «простыми» Цец называет свитки, включающие в себя лишь одно сочинение, а смешанными - различные собрания, энциклопедии и антологии, столь популярные в поздней античности.
Естественно предположить, что доступ в царский дворец был ограничен, и книгами в Мусее могли пользоваться лишь избранные, однако замечание ритора конца четвертого века Афтония Антиохийского о том, что книги Се-рапиона, расположенные в комнатах, с выходами на колоннаду, были доступны абсолютно всем, стремящимся к знаниями, едва ли является преувеличением ( Прогимнасмы 12).
Книги для царской библиотеки покупались, копировались и переводились. Гален сообщает, что копия его Комментария к Эпидемиям Гиппократа попала в библиотеку потому, что находилась на корабле, прибывшем в александрийский порт, ведь согласно распоряжению Птолемея III Эвергета все гости Александрии должны были предъявлять таможенному чиновнику все имеющиеся у них книги для копирования и последующего помещения в библиотеку. Примечательно, что полученные таким образом книги назывались «с кораблей» и помещались для сортировки в специальное хранилище в порту, где находились какое-то время, прежде чем быть каталогизированными и помещенными в библиотеку. Гален замечает также, что тот же Птолемей как-то позаимствовал официальные копии трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида в Афинах в обмен на значительный денежный депозит, однако затем отказался их возвращать, предпочтя потерять деньги (Гален, Комментария к Эпидемиям Гиппократа 3). В другом месте Гален упоминает о соперничестве между александрийскими царями и царями Пергама, его родного города, за книги, что не только повышало их рыночную стоимость, но и создавало условия для появления множества подделок (Комментарий к О природе человека Гиппократа 1.44). Попавшие в библиотеку книги не только копировались и переписывались. Некоторые из них изучались и переиздавались в соответствии с научными стандартами того времени. Так, Александр Этолийский издал греческие трагедии, Ликофрон Халкидский -комедии, а Зенодот Эфесский - Гомера и других поэтов (Иоанн Цец, Пролегомены к греческим комедиям, Prooemium III Koster). Первую библиографию, называющуюся «Таблицы о тех, кто прославился во всех областях знаний и о том, что они написали» (сокращенно, Таблицы, или Pinakes), по-видимому, составил Каллимах, однако мы не можем быть уверены в том, что это был актуальный каталог библиотечного собрания. Не исключено, что это была именно систематизированная библиография, составленная на основании всех, доступных Каллимаху, источников и отражающая его интересы. К сожалению, мы не знаем, как именно был устроен этот каталог, даже с учетом тех фрагментов античных библиографий, которые сохранились до наших дней (Blum 1991).
Интересна история библиотеки Теофраста, включавшей в себя и сочинения Аристотеля. Согласно Афинею, Птолемей Филадельф купил эти книги у Нелея, наследовавшего библиотеку Теофраста, и «вкупе с другими, приобретенными в Афинах и на Родосе, перевез в прекрасный город Александрию» (Пирующие софисты 1.3). Напротив, Страбон (География 13.1.54) рассказывает иную историю. По его сведениям, Теофраст наследовал библиотеку Аристотеля вместе со школой, а затем ее существенно расширил, так как специально заботился о полноте и системности своего собрания. Именно он, как далее замечает географ, «научил искусству организации библиотек египетских царей». Далее, Нелей, сын Кориска, сократического философа из Скепсиса и бывшего ученика Аристотеля, получил от Теофраста его библиотеку в наследство и перевез ее в свой родной город. Наследники Нелея были людьми простыми и поэтому хранили книги дома, не слишком о них заботясь. Более того, не желая отдавать их атталид-скому царю, который охотился за книгами для пополнения своей библиотеки в Пергаме, они спрятали их в подвале, тем самым еще более ухудшив условия их хранения. Лишь спустя какое-то время книги, изрядно пострадавшие от сырости и плесени, были за значительную сумму проданы некоему Апелликону Теосскому, который попытался восстановить испорченные части рукописей, реставрируя их и переписывая, причем нередко некорректно, так как не был философом и не мог адекватно понять их содержание. В таком виде, с множеством ошибок, они и были впервые опубликованы. Наконец, сразу же после смерти Апелликона, захвативший Афины Сулла отправил книги в Рим, где они попали в руки грамматика Тираннио-на из Амиса, библиофила, собравшего, по некоторым сведениям, огромную личную библиотеку. Примечательно, что Цицерон, знавший Тиранниона, даже не подозревал о существовании книг Аристотеля. Это, конечно, другая история (Barnes 1997). В данном контексте важно подчеркнуть, что, скорее всего, библиотека Теофраста в конечном итоге осталась в Риме и Александрии достигла лишь в копиях (MacLeod 2014, 79 ff.).
Александрийская библиотека состояла из книг на греческом языке, как оригиналов, так и переводов, некоторые из которых подготавливались по указанию царя. Так, гелиопольский жрец Манетон сочинил, по заказу Птолемея Филадельфа, историю Египта. Эта история до нас не дошла, фрагментарно сохранившись в сочинениях Иосифа Флавия и некоторых христианских писателей. Составлена она была на основе локальных египетских книг, также нам не известных. Гермипп, ученик Каллимаха, написал, также по заказу царя, комментарий к стихам Зороастра (Плиний, Естественная история 3.4). Мы не знаем, предполагал ли этот комментарий какую-то работу с иранским текстом. Иоанн Цец и Георгий Синкелл (см. свид. ia-Ь ) в один голос утверждают, что царь заказывал переводы всевозможных египетских, халдейских и римских книг, а также, как мы знаем, иудейских. В действительности, переводы, даже с латыни, были в античности скорее исключением, чем правилом. Так что финансируемая царями программа переводов в конечном итоге по-видимому свелась к изданию нескольких ключевых текстов, самым известным из которых стала Септуагинта.
III
Античные свидетельства
1а. Георгий Синкелл, Избранная хронография (р. 517-18 Dindorf): Когда Птолемей Лаг16 умер от удара молнией, его сын Птолемей Филадельф17 наследовал царство. Он был мудрым и очень активным человеком, собиравшим всевозможные греческие книги, а также халдейские, египетские и римские, иностранные поручив перевести на греческий... Этот Птолемей Филадельф собрал, можно сказать, всевозможные книги со всего мира, и сделал это благодаря Деметрию Фалерскому, третьему афинскому законодателю, очень уважаемому человеку среди эллинов. Сюда входили и иудейские писания, как уже было сказано.18 Так он основал в 132 олимпиаду19 библиотеку в Александрии, и умер20 в процессе ее наполнения. В ней было, согласно некоторым, 100 тыс. книг.
1Ь. Иоанн Цец, Пролегомены к греческим комедиям (Prooemium II, SA XIa II, 1.1A.32.2-11 Koster): Упомянутый царь Птолемей,21 обладающий воистину философским и божественным душевным складом, и будучи убежденным любителем всего прекрасного видом, делом и словом, благодаря Деметрию Фалерскому и другим старцам собрал на собственные деньги в Александрии книги со всего мира, и поместил их в двух библиотеках. Та, что была снаружи,22 включала в себя 42800 книг, а расположенная внутри царского дворца - 400 тыс. книг «смешанных»23 и 90 тыс. «не смешанных» и простых, как об этом сообщает Каллимах, тогда еще молодой человек, состоявший при дворе; позже, систематизировав собрание, он составил каталог («таблицы», pinakes).
1с. Епифаний Саламинский, О мерах и весах 11: Септуагинта ... была помещена в «первую библиотеку» в Брухейон [царский дворцовый комплекс], и лишь позже была построена другая библиотека в Серапионе, меньшего размера, названная дочерней.
-
2. Аристей, Письмо Филократу , фрагменты (Aristeas, Epistula ad Philocra-tem 9-11; 28; 29-32; 301-3; 308-9; 312-6): (9) Будучи поставлен главой царской библиотеки, Деметрий Фалерский получил большую сумму денег для того, чтобы собрать, насколько это возможно, самые разнообразные книги со всего мира, и начал покупать их и переписывать, дабы исполнить, насколько это было в его силах, поручение царя. (10) Когда же, в нашем присутствии, он был спрошен о том, сколько десятков тысяч книг им уже собрано, то он ответил: «Более двадцати [=200 тыс.], о царь! И в скором времени я завершу это дело, доведя их число до пятидесяти [=500 тыс.]. Мне сообщили также, что писания иудеев заслуживают того, чтобы находиться в твоей библиотеке». (11) «Но что же тебе мешает?» - спросил царь. - «Что не позволяет осуществить это?» Деметрий же ответил: «Необходим переводчик. Ведь они используют особое письмо, подобно египтянам, а также говорят на своем наречии. Им бы следовало использовать сирийский [арамейский] язык, однако это не так и язык у них другого рода».
Узнав об этом, царь распорядился, чтобы было отправлено письмо иудейскому архиерею с просьбой посодействовать исполнению вышесказанного дела [...]
-
(28 ) Когда же и это24 было исполнено, царь спросил Деметрия о переводе иудейских книг [...] вот и копия его ответа:
-
(29 ) «Великому царю от Деметрия. Твой приказ, царь, о книгах, которые мы все еще ожидаем для пополнения библиотеки, дабы и они были собраны, а поврежденные свитки подобающим образом восстановлены, я в настоящее время сделал первейшей своей заботой, о чем и сообщаю. По-прежнему, наряду с некоторыми другими книгами, недостает иудейских. Ведь книги эти, как оказалось, составлены на еврейском языке и к тому же, по мнению знающих людей, отдельные знаки в них написаны достаточно небрежно. Ведь они все еще обделены провиденциальной заботой царя. Между тем, эти книги также должны быть тебе доступны, достоверно переписанные, так как это законодательство весьма философично, не смешано с другими и, если угодно, боговдохновенно. Потому-то писатели, поэты и большинство историков не ссылались на упомянутые книги, равно как и те, кто правил и правит в согласии с ними. И все это по причине почтения к их божественности, как говорит абдерит Гекатей. Если тебе, о царь, будет угод
—
-
24 В предыдущем разделе письма говорится об освобождении Птолемеем иудей
ских военнопленных.
но, мы напишем иерусалимскому архиерею и попросим его направить к нам почтенных старцев, известных свой праведностью, подлинных знатоков их закона, по шесть человек от каждого племени. Лишь таким образом мы сможем, вычленив то, в чем они единогласны, подготовить точный перевод, достойный как самого предмета, так и поставленной тобой задачи. Будь счастлив и процветай» [...]25
-
(301) Через три дня Деметрий призвал их26 к себе, провел семь стадиев по морской дамбе, ведущей к острову,27 перевел через мост и направил в северный квартал, где для них было организовано специальное рабочее место, в доме на берегу, прекрасно обставленном и расположенном в очень тихом районе. Здесь он предложил гостям начать работу над переводом, заверив, что в их распоряжении будет все необходимое. Тогда каждый из них выполнил свой перевод, согласовывая его с другими в процессе обсуждения. (302) Затем согласованный перевод был подобающим образом переписан, причем Деметрий лично контролировал этот процесс. (303) Ежедневно они работали до девятого часа, и лишь после этого переходили к удовлетворению повседневных потребностей [...]
-
(308) После завершения работы Деметрий созвал иудейское собрание в том месте, где был выполнен перевод, и прочитал его в присутствии самих переводчиков, которые заслужили великую похвалу со стороны народа за то, что совершили столь полезное дело. Кроме того, старейшины, с благодарностью за его труды, попросили Деметрия изготовить и для них полную копию текста закона [...]
-
(312) Получив отчет о проделанной работе, царь обрадовался тому, что его распоряжение было точно исполнено. Тут же ознакомившись с переводом в полном объеме, он был весьма удивлен проницательности [иудейского] законодателя и спросил Деметрия: «Почему же столь значительное и масштабное сочинение никогда ранее не упоминалось историками и поэтами?» (313) «Это произошло, - ответил Деметрий, - из почтения к закону, имеющему божественное происхождение. Ведь те немногие, которые все же решились на это, были наказаны божеством и оставили это дело». (314) Он добавил, что
- Теопомп28 сам рассказывал ему, как его разум был смущен в течение тридцати дней после того, как он неосмотрительно решил записать некоторые из доступных ему переложений закона. (315) И лишь после неоднократных обращений к богу с просьбой объяснить, что с ним случилось, он, наконец, получил во сне разъяснение: как оказалось, стремясь раскрыть божественные предметы простым людям, он вышел за пределы дозволенного. Отказавшись от своего намерения, он тут же вернул себе разум. (316) «Мне рассказывали, что и трагик Теодект, решивший было вывести в своей трагедии одного из библейских персонажей, тут же испытал приступ глаукомы, и, подозревая, что причиной страданий могло быть это его намерение, излечился от болезни лишь после многократных обращений к божеству».
-
3. Аристобул (Евсевий, Приготовление к евангелию 13.2.1-2):29 Из слов Аристобула, адресованных царю Птолемею: «Очевидно, что Платон следовал нашему Закону и ясно, что он познал его во всех деталях. Ведь и до Деметрия Фалерского, и еще до Александра и персидского нашествия, другими людьми была переведена как история исхода из Египта евреев, наших сограждан, так и история обретения ими земли [обетованной]; то же относится и объяснению всего их законодательства, так что очевидно, что указанный философ многое у них позаимствовал. Ведь он обладал многими знаниями, как и Пифагор, который также многое взял у нас и переместил в свое собственное учение. Полный же перевод всех книг Закона был выполнен при царе, именуемом Филадельфом, твоем предшественнике,30 который внес в это дело немалый вклад, организацию всего доверив Деметрию Фа-лерскому».
-
4. Климент Александрийский, Строматы 1.148.1: Писание, как законы, так и книги пророков, были переведены с еврейского языка на эллинское наречие, как говорят, при царе Птолемее Лаге31 или же, как считают другие, при другом [Птолемее], именуемом Филадельфом, который внес немалый вклад в это дело, тогда как Деметрий Фалерский тщательно организовал все, связанное с этим переводом.
-
5. Тертуллиан, Апологетик 18.5: Птолемей, именуемый Филадельфом, был знатоком всякой литературы, стремясь, как мне кажется, своей страстью к чтению (studio bibliothecarum) померяться с Писистратом.32 В дополнение к другой литературе, сделавшейся знаменитой благодаря свой древности и занимательности (и по совету Деметрия Фалерского, наиболее значительного грамматика своего времени, поставленного им заведующим [библиотекой]), он потребовал так же, чтобы иудеи передали ему имеющиеся лишь у них книги на своем языке.
-
6. Иосиф, Против Апиона 2.45-7: Наследовавший ему Птолемей, именуемый Филадельфом, не только вернул домой всех военнопленных, но и нередко помогал им деньгами и, кроме того, всерьез заинтересовавшись нашим законом, ознакомился с книгами, содержащими священные речения. Он же распорядился о том, чтобы были найдены люди, которые смогли бы перевести для него закон и, стремясь обеспечить точность перевода, поручил это дело не кому попало, но таким людям, как Деметрий Фалерский, Андрей и Аристей,33 так как первый отличался своей образованностью, а остальные были его личными телохранителями.
-
7. Георгий Синкелл, Избранная хронография (р. 517 Dindorf): Любимы богом и едины духом, они, объединившись в пары, в течение 72-х дней выполнили боговдохновенное и единогласное переложение всех еврейских речений. Когда же перевод был прочитан вслух для Птолемея и других ученых людей из его круга - прославленного своими познаниями среди эллинов Деметрия Фалерского, философа Менедема и других, процветающих в это время, - то все они согласились с тем, что, в сравнении с известными им переводами, этот был поистине боговдохновенным.34
-
8. Иосиф, Против Апиона 1.215-8: Древность наша засвидетельствована египтянами, халдеями, финикийцами, не считая многочисленных эллинских писателей. В дополнение к упомянутых ранее, Теофил, Теодот, Мнесей, Аристофан, Гермоген, Евгемер, Конон, Зопирион и многие другие (ведь все книги не прочитать и вовек)35 сообщают о нас отнюдь не походя. Но большинство
-
10 . Оксиринхский папирус (Р Оху 1241): Аполлоний, сын Силлия, из Александрии, именуемый Родосским, друг Каллимаха. Он был также учителем первого царя.зд Ему наследовал Эратосфен, после которого пришли Аристофан, сын Апеллеса из Византия, и Аристарх; за ними были Аполлоний Александрийский, именуемый Идограф, затем Аристарх сын Аристарха Александрийского, родом из Самофракии; он также был учителем детей Филопатора.40 За ним пришел копейщик Кадас. При девятом царе процветали Аммоний и Зенодот, а также Диокл и Аполлодор, грамматики.41 —
-
36 Манетон из Себеннита, живший во времена Птолемеев (должно быть, первая половина III в. до н. э.), написал фрагментарно сохранившуюся историю Египта.
-
37 По свидетельствам Синкелла и Иосифа ( Против Апиона 1.1g) он жил во времена Александра Великого. Он сочинил историю Халдеи (в частности, упоминая о потопе), перемежая ее сведениями об астрономии и других вавилонских науках.
-
38 Птолемей из Мендеса был эллинистическим историком, сочинившим египетскую хронику. Историю Тира Менандра Эфесского использовал Иосиф ( Против Апиона 1.18 и др.). Царь Юба, правящий Нумидией с 60 по 46 г. до н. э., был известен своим интересом к наукам. Самаритянский историк времен Юлия Цезаря Талл был автором всеобщей истории со времен Троянской войны.
из вышеупомянутых не смогли ухватить истину о начале нашей истории, так как не были знакомы со священными речениями. Однако все они свидетельствуют о нашей древности, о чем я и собираюсь сейчас сказать. Деметрий Фа-лерский, старец Филон и Евполем не упустили истину полностью, хотя и в их случае возможны некоторые уступки, так как они не могли следовать со всей точностью нашим писаниям.
д. Тертуллиан, Апологетик ig.5-6: Множество текстов необходимо, дабы доказать это [древность Моисея]. Для этого следует открыть архивы древнейших народов, египтян, халдеев, финикийцев, а также обратиться к отдельным писателям, таким как Манетон из Египта,36 Берос из Халдеи,37 финикиец Иероним, царь Тирийцев, и их последователям, Птолемею из Мендеса, Менандру Эфесскому, Деметрию Фалерскому, цару Юбе, Апиону, Таллу38 и человеку, который временами одобряет, а временами опровергает вышеупомянутых, Иосифу Иудею, национальному защитнику иудейских древностей.
-
3 д В действительности, второго.
-
40 Снова ошибка: Филометора.
-
41 На основании Лексикона Суды восстанавливается другой порядок александрийских библиотекарей: Зенодот, Аполлоний Родосский, Эратосфен, Аристофан Византийский, Аполлоний Идограф и Аристарх. Все они были известными учены-
- 11а. Плутарх, Цезарь 49: Будучи отрезан [от своих], Цезарь вынужден был, дабы избежать опасности, поджечь корабли, и огонь, распространившись от доков, перекинулся на великую библиотеку.
11b. Дион Кассий, Римская история 42.38.2: ...многие части [города] были в огне, в том числе доки и зернохранилища [в порту], а также книги, как говорят, многочисленные и великолепные.42
11с. Сенека, О спокойствии духа 9.4-5: В чем польза от бесчисленных книг в библиотеках, если их владельцу не хватит жизни, чтобы прочитать собственное собрание? ... 40 тыс. книг сгорело в Александрии. Пусть такие, как Ливий, восхваляют этот памятник царской власти...43
11d. Аммиан Марцеллин, История 22.16.13-14: ... Храм Сераписа ... превосходит все иные в Александрии ... Именно здесь находились неисчислимые библиотеки и, согласно достоверному древнему свидетельству, 700 тыс. книг, собранных под неусыпным надзором царей Птолемеев, в одночасье ми. Мы ничего не знаем об Аполлонии Идографе. Возможно, просто Аполлоний Родосский по ошибке перечислен дважды. Список заканчивается временами Птолемея VII Эвергета, когда, в 145 г. до н. э. Аристарх вынужден был покинуть Александрию. Последний библиотекарь из списка был кем-то из царского окружения («копейщик Кадас»). О нем мы ничего не знаем. Не исключено, что он был просто администратором. Ясно так же, что александрийские библиотекари должны были каким-то образом выполнять обязанности воспитателей царских детей.
сгорели во время Александрийской войны, когда город был осажден диктатором Цезарем.44
не. Павел Орозий, Истории, против язычников 6.15.31: В ходе этой битвы было приказано поджечь царский флот, который находился на берегу, и огонь распространился на городские кварталы, уничтожив 400 тыс. книг, которые хранились в соседнем здании ™45
11f. Плутарх, Антоний 58-59: Кальвиний, сторонник Цезаря, выдвинул и такие обвинения против Антония в отношении Клеопатры: он якобы предложил ей библиотеки из Пергама, включающие в себя 200 тыс. книг™ Пола гают, что большая часть обвинений Кальвиния им клеветнически выдума на.
12. Аммиан Марцеллин, История 22.16.15: Александрия страдала ™ от внутренних раздоров, пока, наконец, через много лет, во времена императора Аврелиана, раздоры не превратились в страшную битву. Стены были разрушены, погибла большая часть района, именуемого Брухейон, в котором многие века жили достойнейшие люди™47
Список литературы Moses Attikidzon: философия и религиозная политика в античной Александрии
- Афонасин, Е. В. (2017) «Тексты Аристотеля и его ближайших последователей», Аристотель: идеи и интерпретации. Под ред. М. С. Петровой. Москва: Аквилон, 13–171.
- Afonasin, E. V. (2017) “The texts of Aristotle and his close followers,” Aristotel’: idei i interpretatsii [Aristotle: Ideas and Interpretations], ed. by M. S. Petrova. Moscow, 13–171 (in Russ.).
- Rowe A. (1946) Discovery of the Famous Temple and Enclosure of Serapis at Alexandria. Le Caire.
- Rowe, A. (1956–57) “A Contribution to the Archaeology of the Western Desert, IV: The Great Serapeum of Alexandria,” Bulletin of the John Rylands Library 39, 485–520.
- Pfeiffer, St. (2008) “The God Serapis, his Cult and the Beginnings of the Ruler Cult in Ptolemaic Egypt,” in McKechnie, P., Guillaume, Ph. (eds.) Ptolemy II Philadelphus and his World. Leiden: Brill.
- Blum, R. (1991) Kallimachos: The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography, trans. Hans H. Wellisch. Madison: University of Wisconsin Press. el-Abbadi, M. A. H. (1990, 19922) Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria. Paris.
- Fraser, P.M. (1972) Ptolemaic Alexandria. Oxford, 3 vols.
- Parsons, E. A. (1952) The Alexandrian Library: Glory of the Hellenic World: Its Rise, Antiquities and Destruction. Amsterdam: Elsevier.
- Pfeiffer, R. (1968) History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age. Oxford: Clarendon.
- MacLeod, Roy M., ed. (2014) The Library of Alexandria: Centre of Learning in the Ancient World. London.
- Harris W.V., Ruffini G., eds. (2005) Ancient Alexandria between Egypt and Greece. Leiden: Brill.
- Haas, C. (1997) Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict. Baltimore.
- Hoek, A. van den (1988) Clement of Alexandria and his use of Philo in the Stromateis. Leiden: Brill.
- Ridings, D. (1995) The Attic Moses. The Dependency Theme in Some Early Christian Writers. Goteborg.
- Fortenbaugh, W., Schütrumpf, E., eds. (2000) Demetrius of Phalerum: Text, Translation and Discussion. Rutgers University Studies in Classical Humanities IX. Transaction Publishers, New Brunswick, NJ.
- Barnes J. (1997) “Roman Aristotle,” in J. Barnes, M. Griffin (eds.), Philosophia Togata II: Plato and Aristotle at Rome. Oxford, 1-69.
- Holladay, Carl R. (1995) Fragments from Hellenistic Jewish Authors. Volume 3: Aristobulus. Atlanta: Scholars Press.
- Walter N. (1964) Der Thoraausleger Aristobulos. Untersuchungen zu seinen Fragmenten und zu pseudepigraphischen Resten der jüdisch-hellenistischen Literatur. Berlin.