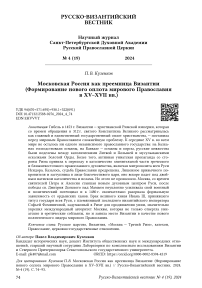Московская Россия как преемница Византии (формирование нового оплота мирового православия в XV-XVII вв.)
Автор: Кузенков П.В.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
Гибель в 1453 г. Византии - христианской Римской империи, которая со времен обращения в 312 г. святого Константина Великого рассматривалась как главный и единственный государственный оплот христианства, - поставила перед мировым Православием сложнейшую проблему. К середине XV в. во всем мире не осталось ни одного независимого православного государства: на Балканах господствовали османы, на Кавказе - османы и персы, русские княжества были поделены между католическими Литвой и Польшей и мусульманскими осколками Золотой Орды. Более того, активная униатская пропаганда со стороны Рима привела к переходу в католичество значительной части греческого и ближневосточного православного духовенства, включая митрополита всея Руси Исидора. Казалось, судьба Православия предрешена. Лишенное привычного покровителя и заступника в лице благочестивого царя, оно вскоре падет под двойным натиском католичества и ислама. Но этого не произошло. Москва, со времен святителей Петра и Алексия ставшая новым духовным центром Руси, после победы св. Дмитрия Донского над Мамаем неуклонно усиливала свой военный и политический потенциал и к 1480 г. окончательно разорвала формальную зависимость от ордынских ханов. Брак великого князя Ивана III, принявшего титул государя всея Руси, с племянницей последнего византийского императора Софьей Фоминичной, задуманный в Риме для продвижения унии, значительно укрепил международный авторитет Москвы, которая не только отвергла униатские и еретические соблазны, но и заняла место Византии в качестве нового политического лидера мирового Православия.
Русское царство, византия, «москва - третий рим», катехон, православие, церковно-государственные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/140308453
IDR: 140308453 | УДК: 94(470+571:495)+930.1+322(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_74
Текст научной статьи Московская Россия как преемница Византии (формирование нового оплота мирового православия в XV-XVII вв.)
E-mail: ORCID:
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Institute of Historical and Mathematical Mechanics, Senior Researcher of the Laboratory for Complex Studies of Byzantium and the Northern Black Sea Region, Sevastopol State University.
E-mail: ORCID:
1. Идея «удерживающего» в христианской богословской мысли
Христианство — религия, в самом основании которой лежит концепт Царства. Именно как Помазанник (Мессия = Христос), то есть долгожданный царь Израиля, был встречен Иисус из Назарета современниками, и именно как «царь Иудейский» Он принял распятие. Но Сам же Иисус объявил, что Его царство — «не от мира сего» (Ин 18:36), поскольку лишено главной характеристики государств «этого века»: узаконенного насилия. Христос, живой и воскресший, стал Главой особого метаполитического сообщества — Церкви, в которой господствует не страх перед законом, а благодать любви.
С этого времени в христианском мире сосуществуют два социальных плана: секулярный, политический в обычном смысле этого слова, и духовный, который символизирует Церковь. Блаж. Августин описывает эти два плана как civitas Dei (город-государство Бога) и civitas terrena (земной город-государство) и определяет их как объединяемые один — эгоистичной любовью к себе, другой — возвышенной любовью к другим и к Богу1. В перспективе эти два мира объединятся: во Втором Пришествии Христос явится уже в силе и славе, чтобы окончательно изгнать из мира зло, воплощением которого станет антихрист, и после всеобщего воскресения и Суда будет править как царь-архиерей в Царстве Божием, которому не будет конца.
Но до Судного дня в мире разворачивается напряженная духовная борьба за человека, которого пытаются отвратить от Бога враждебные Творцу слуги сатаны. Основным оружием этих вражеских сил является ложь, а излюбленным приемом — соблазны богатством, властью и славой. В эту духовную борьбу вовлечены народы и государства, которые, по наглому заявлению сатаны, «переданы его власти» (Лк 4:6). Разумеется, эта власть «князя мира сего» (Ин 16:11) основана лишь на том, что народы и их правители, забыв истинного Бога, служат Маммоне, Молоху и иным кумирам, превратив историю человечества в череду войн и насилия. Но когда народы обращаются к истинному Господу Вселенной — на земле воцаряются мир и благоденствие. Только в тех случаях, когда люди впадают в полный разврат и растление, Творец посылает катастрофы и бедствия, чтобы смирить и образумить безумцев, обратить их к покаянию и благочестию. Впрочем, человечество может отреагировать на эти бедствия и иначе: в поисках спасения обратиться к сильной личности, которая наведет порядок железной рукой и вернет спокойствие и достаток — взамен требуя беспрекословного послушания и служения себе. Антихрист, по пророчеству Апокалипсиса, заняв в сердцах людей место Христа, поработит обезумевшее от бедствий человечество. И тогда Бог Сам вступит в борьбу с антихристом и его хозяином-сатаной, что и приведет к концу этого мира — и началу Вечности.
Первые христиане ожидали быстрого развития событий. Нравственное состояние античного мира не внушало оптимизма тем, кто почитал Бога и соблюдал Его заповеди. Эсхатологические настроения подпитывали и трактовки мистических пророчеств из билейской Книги Даниила, где ангел сообщает точное время явления Христа Владыки ( mashiah nagid ): 70 седмин от выхода указа о восстановлении Иерусалима (Дан 9:24). Христос будет убит, Иерусалим и храм разрушены, а через 1290 дней наступит воскресение мертвых для вечной жизни (Дан 12:11). Упомянутый в пророчестве указ был издан в 7-й год Артаксеркса I (1 Езд 7:8). Отсчитанные от этой даты (в 458/7 г. до н. э.) 490 лет приводят в 32/33 г. н. э. Именно в это время и разворачивались евангельские события (хотя точный год Распятия до сих пор дискутируется в науке)2. Если буквально понимать Книгу Даниила, до всеобщего воскресения после этого оставались считанные годы. И апостол Павел пишет ученикам: мы живыми застанем этот день (1 Фес 4:15–17; ср. 1 Кор 15:51). Впрочем, уже в следующем послании Павел успокаивает фессалоникийцев: конец света не наступит, «пока не будет взят из среды удерживающий теперь (ὁ κατέχων ἄρτι ἕως)» (2 Фес 2:3–7).

Основание Константинополя. Худ. П. Рубенс, 1622 г.
Годы шли, конец света не наступал. Это говорило о том, что «удерживающий-катехон» оставался на месте. Многие экзегеты считали, что это не кто иной, как римский император — самый могущественный земной властелин, который выступает естественным препятствием для проявления самозванца-антихриста. К этому мнению склонялись такие богословские авторитеты, как св. Иоанн Златоуст3 на греческом Востоке и блаж. Августин4 на латинском Западе христианского мира. Римская империя угадывалась и в последнем из мировых царств-зверей, описанных в Книге Даниила (Дан 2:44; 7:8–14), за которым наступало вечное царство Божие5.
Сам Христос указал, что время, отделяющее Первое Пришествие Сына Божия от Второго, известно лишь Самому Богу (Мф 24:36). Более того, Он прямо запретил вычислять срок эсхатона (Деян 1:7). Однако экзегеты давно отметили мистическую связь между шестью тысячелетиями, прошедшими от Адама до Христа по хронологии Септуагинты, и шестым днем творения, в который был создан Адам (Быт 1:27–31). Ключем к этой экзегезе была фраза апостола Петра: «у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петр 3:8; ср. Пс 89:4). Опираясь на эту гипотезу, ученые предлагали разные конструкции мировых эр, где Пришествие Христа помещалось в 5000, 5500, 5505, и 6000 годы от Адама6. За «пятничным» тысячелетием начи налась 1000-летняя «суббота», наме к на которую можно обнаружить в Апокалипсисе
(Откр 20:1–10)7. По мнению большинства древних хронологов, 6000 г. выпадал примерно на 500 год н. э. И с учетом роли «удерживающего», которая была уделена Римской империи, ее собственные перспективы оказывались связаны с судьбами мира самым непосредственным образом8.
В V в. н. э., в конце которого ожидался конец Рима и мира, Вечный город, действительно, испытал немало катаклизмов. В 410 г. его взяли готы, в 455 г. разграбили вандалы, а в 476 г. был низложен последний западный император. Однако Империя не погибла. Просто ее столица окончательно перешла в Новый Рим — Константинополь, христианский город Константина Великого. С этой новой эпохой в жизни Римской империи, которую мы сейчас называем Византией, многие связывали надежды на реализацию главной задачи седьмого, субботнего тысячелетия — христианизацию всего человечества9.
2. Римская империя и христианство
Римская Империя со времен Августа претендовала на роль всемирного государства (orbis terrarum, οἰκουμένη). А после обращения императора Константина Великого (312 г.) политический универсализм Рима вполне органично соединился с религиозным универсализмом христианства, которое быстро превратилось из разрешенной религии в религию господствующую10. Не считая отступника Юлиана, все римские императоры с IV по XV вв. были верующими христианами и поддерживали Церковь. Язычество было вытеснено из общественного пространства, а внутри Церкви государство стремилось обеспечить единство, борясь с расколами и ересями, которыми была богата ранняя история христианства11. Созывавшиеся по инициативе императоров Вселенские Соборы (325, 381, 431, 451, 553, 680–1, 691–2, 787 гг.) принимали догматические и дисциплинарные нормы, которые охранялись силой государственных законов. Те, кто следовал соборным решениям, назывались «католиками» (καθολικοί — то есть членами всеобщей (καθ’ὅλου) Церкви) и «православными» (ὀρθόδοξοι — то есть имеющими правильное мнение, ὀρθὴ δόξα). Несогласные получали статус еретиков (αἱρετικοί — «предпочитающие [свое суждение]») и подлежали церковному отлучению, а особо активные — и уголовному наказанию за неподчинение императору12.

Первый Вселенский Никейский Собор. Эскиз росписи храма Христа Спасителя в Москве. Худ. В. И. Суриков, 1876 г.
Императорская власть выступала в роли важнейшего организатора церковной жизни. В этой роли Римское государство выступало и в языческие времена; все императоры до Грациана (382) были еще и великими понтификами — главными жрецами древнеримской религии. Но в христианстве их роль изменилась. Церковь запрещала поклоняться государству и императору (как было принято в языческой империи) и отстаивала свою независимость даже от христианских властей. В результате в публичной сфере оформилось разделение на светское и духовное пространство: в одном доминировало государство, в другом — духовенство.
Императоры приняли такое разделение, хотя оно и ограничивало их ранее тотальную власть. Принцепс был неограниченным владыкой подданных, не связанным даже законами (legibus solutus), но в церковной среде он оказывался рядовым, хотя и почетным, мирянином, который на равных со всеми подлежал духовным епитимиям. Независимость Церкви была обеспечена и юридически: клирики (лица, посвятившие себя церковному служению) подлежали епископскому, а не гражданскому суду.
Система разделения государства и Церкви как двух равноправных и обладающих равным достоинством общественных институтов хорошо описана в преамбуле к 6-й новелле Юстиниана Великого: «Величайшими у людей дарами Божиими, данными по вышнему человеколюбию, являются священство и царство, первое — служащее делам божественным, второе — руководящее и занимающееся делами человеческими, вместе происходя от одного и того же начала и обустраивая жизнь человеческую. И ничто так не важно для царей, как почтенность иереев, поскольку те и за них самих вечно молят Бога. Ибо если первое будет совершенно безукоризненным и удостоится у Бога права ходатайства, а второе будет правильно и подобающим образом

Юстиниан I и епископ Максимиан в окружении свиты. Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне, VI в.
обустраивать переданное ему государство, наступит некое доброе согласие, дарующее всякую, какая ни на есть, пользу роду человеческому»13.
Данная система, известная как симфония (именно этим музыкальным термином император описал идеал церковно-государственных отношений), предполагает, что верховная власть (βασιλεία) и церковная иерархия должны независимо, но согласно исполнять каждая свою данную от Бога миссию. Государство — справедливо и законно управлять обществом, а духовенство — чисто и незапятнанно исповедовать веру, чтобы Бог слышал молитвы христиан и был к ним благосклонен. Обязанность следить за благочестием духовенства государство брало на себя, так как только у него был необходимый для этого репрессивный аппарат. Но сами нормы духовной жизни определялись не государственными законами, а церковными догматами и канонами.
Так в ранней Византии возникла устойчивая система взаимодействия государства и Церкви. Власть поддерживает Церковь организационно и материально, но не вторгается в ее внутреннее управление, вероучение и богослужение. Церковь признает божественное происхождение власти и призывает подчиняться ей, но клирики служат только Богу и отказываются занимать государственные должности14.
Триединый Бог признается единственным истинным Царем, возглавляющим и Церковь, и государство. Императоры и епископы играют роль Его временных заместителей и передадут свою власть Христу после Его Второго Пришествия. В византийском правовом памятнике «Исагога» (IX в.) проводится параллель между служением императора и патриарха15. В 3-й главе, автором которой считается патриарх Фотий Константинопольский, повторяется и раскрывается идея Юстиниана о гармонии светского и духовного начал: «Поскольку государство, подобно человеку, составляется из частей и членов, величайшими и необходимейшими частями являются василевс

Святые императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей.
Мозаика Собора святой Софии, вторая половина Х в.
и патриарх; потому мир и благополучие в душе и теле подданных заключаются во всяческом единодушии и согласии (ὁμοφροσύνῃ καὶ συμφωνίᾳ) царства и архиерейства»16.
Этот идеал церковно-государственных отношений Византия транслировала и на другие народы, принимавшие христианство. Так, в письме к первому христианскому правителю Болгарии, князю Борису-Михаилу, тот же патриарх Фотий писал в 865 г.: «Долг правителя — не только заботиться о собственном спасении, но и удостаивать равного попечения вверенный ему народ, вести их к тому же богопознанию и призывать к совершенству»17.
Критически важным качеством христианского правителя было его личное благочестие и способность быть примером для вверенного ему народа. В высшей степени это требование относилось к императорам, которые в представлениях самих греков и в глазах окружающих народов выступали лидерами христианского мира. Впрочем, на Западе сложилась несколько иная система, в которой центр авторитета в XI в. переместился в сторону папства — что и стало одной из главных причин раскола 1054 г. Однако православные народы по-прежнему ориентировались на духовную и светскую диаду Византии, престиж которой не был поколеблен даже катастрофой 1204 г., когда рыцари IV крестового похода захватили Константинополь, где воцарился латинский император и католический патриарх.
3. Падение Византии и подъем Москвы
Отвоевавший Новый Рим у латинян император Михаил VIII Палеолог мог бы покрыть себя неувядаемой славой — но вместо этого заслужил проклятие. Ведь именно он стал первым византийским императором, который пожертвовал Православием в угоду политическим резонам. Боясь новой агрессии со стороны европейских прави телей, Михаил VIII решил заключит ь унию с Римско-Католической церковью. В 1274 г.
на Лионском соборе представители Византии официально признали папу римского своим духовным главой и приняли Filioque и другие спорные догматы, с которыми веками полемизировали греческие богословы. Лионская уния не оправдала возлагавшихся на нее надежд, а внутри Византии была встречена в штыки. Император-униат после смерти не был удостоен даже подобающего погребения, а его сын Андроник II Палеолог поспешил восстановить Православие. Ему удалось вернуть Византийской империи авторитет ведущей державы восточного христианства. Так, египетский султан Калаун в 1340 г. в письме к Андронику III титуловал его, среди прочих эпитетов, как «знатока веры своей, справедливейшего в царствовании своем, столпа веры христианской, отца крещеных, чести христианства»18. А его наследник аль-Хасан в 1348 г. называл императора Иоанна IV Кантакузина «оплотом веры и учения христиан, непоколебимым столпом всех крещеных, заступником догматов Христовых»19.
Византийская церковно-политическая идеология рассматривала патриарха Константинопольского не только как первого по чести православного архиерея, но и как духовного лидера всей Православной Церкви. А василевса ромеев — не только как правителя империи, но и как единственного легитимного политического лидера всего христианского мира. Однако под натиском внешних врагов и внутренних проблем Византия слабела, ее территория сократилась до окрестностей Константинополя и анклава в Греции (Морея). В очередной попытке заручиться поддержкой католического Запада император Иоанн V Палеолог принял в Риме в 1369 г. личную унию, признав папу обладателем всей полнотой власти в Церкви20. Это не осталось незамеченным и пошатнуло авторитет Византии, в том числе и на Руси, издавна связанной с Константинополем духовными узами.
Русская земля, в XII в. распавшаяся на уделы, а в XIII в. завоеванная империей Чингисхана, удерживалась воедино только династическими узами князей и единой церковной организацией — Киевской митрополией, подчиненной Константинопольскому патриарху. Чингисиды были язычниками, но покровительствовали христианскому духовенству, что на фоне военно-политического унижения княжеской власти привело к росту влияния Русской Церкви на политическую жизнь. В 1300 г. митрополит-грек Максим переехал из сожженного татарами Киева во Владимир, столицу СевероВосточной Руси. А в 1325 г. его преемник Петр, выходец из Галицко-Волынского княжества, сделал своей резиденцией удельный городок Москва, в котором даже не было своей епископской кафедры. С этого времени роль Москвы радикально меняется: благодаря авторитету митрополита Петра, похороненного в Успенском соборе Кремля, она становится главным центром возрождающейся Руси. Ее ловкие князья прибирают к рукам великое княжение Владимирское и при помощи духовенства начинают собирать страну. После победы Дмитрия Донского над армией Мамая в 1380 г. авторитет Москвы становится беспрекословным. И хотя окончательно ордынское иго удалось свергнуть только через 100 лет, Москва стремительно усиливала свое могущество, превращаясь в крупный центр православного мира.
В Византии смотрели на возвышение Москвы с надеждой и опаской. Сильная Русь с ее огромной митрополией, находившейся под контролем Константинополя, могла стать полезным союзником и источником финансовых средств для обедневшей империи ромеев. Однако усиление московских великих князей грозило рано или поздно обострить вопрос о церковной автокефалии — которой уже добились Болгария и Сербия.
В конце XIV в. патриарх Константинопольский Антоний IV узнал, что великий князь Московский Василий I запретил поминать в богослужении византийского императора. Он писал с укоризной: «Невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя. Ибо царство и це рковь находятся в тесном союзе и общении между

Успенский собор Московского Кремля собою, и невозможно отделить их друг от друга. Тех только царей отвергают христиане, которые были еретиками, неистовствовали против Церкви и вводили извращенные догматы, чуждые апостольского и отеческого учения»21.
Послание Антония, считающееся образцом византийской политической идеоло-гии22, не содержит новых идей. Но выраженные в нем притязания звучат гротескно ввиду вопиющего несоответствия реальной политической ситуации23. Ссылка на то, что бедствия, в которые погрузилась империя, попущены Богом «за общие грехи», могла бы выглядеть уместно, если бы из этого делались практические выводы. Однако вместо решения духовных проблем византийцы сосредоточили свои силы на сугубо мирских вопросах — политических и экономических.
На рубеже XIV–XV вв. Москва и Константинополь, находившиеся на грани уничтожения, не просто избежали гибели, но и получили неожиданную передышку: в результате походов Тамерлана были резко ослаблены их главные внешние враги — татары и турки. В России чудесное спасение приписывали небесному заступничеству. Внезапное отступление шедшей на Москву огромной армии Тамерлана в августе 1395 г. связывали с прибытием из Владимира древней византийской иконы Богоматери, главной святыни Владимиро-Суздальской Руси. Москва сменила древний Владимир в качестве центра возрождающегося Русского государства. Активными участниками государственного строительства выступили великие русские святые — митрополит Алексий и игумен Сергий Радонежский, авторитет которых стал, наверное, более важным основанием политического успеха Москвы, чем хитрая политика московских князей, кропотливо прибиравших к рукам земли соседей. Именно духовное начало стояло во главе угла в процессе объединения Руси вокруг Москвы, символом которой был не Кремль и не дворец великого князя, а Дом Пречистой Богородицы — Успенский собор с гробницей святого чудотворца Петра.

Панорама «Падение Константинополя в 1453 г.» в Историческом музее Стамбула
В Византии же общее направление политики оказалось прямо противоположным. После краткого и противоречивого периода оживления духовной жизни, связанного с именами патриарха-ригориста Афанасия I и лидера исихастского движения св. Григория Паламы, как в светской, так и в духовной сфере империи на первые роли вышли прагматики, возлагавшие надежды не столько на покаянные молитвы, сколько на политические комбинации.
Союз с Москвой, возникший в 1411 г. после брака дочери Василия I Анны и Иоанна VIII, сына и соправителя Мануила II Палеолога, оказался недолговечным. Русскую царевну унесла чума, а Иоанн Палеолог, женившийся вторым браком на католичке, вновь обратился к поискам союза с папством — и тем самым нарушил обязанность василевсов, которую патриарх Антоний выставлял как главное условие их авторитета: сохранение чистоты Православия. В 1439 г. во Флоренции император и сопровождавшие его византийские епископы подписали новую унию с Римской церковью. Но обеспечить этим поддержку сильных государств Европы в борьбе с экспансией Османской империи не удалось. Папство само пребывало в то время в глубоком кризисе и было не способно играть роль лидера коллективного Запада. На призывы выступить против турок откликнулись немногие, и организованный с большими трудами крестовый поход окончился страшным разгромом при Варне в 1444 г.
Уния усугубила внутреннюю ситуацию в Византии, где глубинный раскол между патриотами-латинофилами и блюстителями Православия лишил империю последних сил. Агония Византия протекала в атмосфере тяжелого социального кризиса. Сатира «Путешествие Мазариса по Аду» в резкой форме рисует картину морального разложения, придворных распрей и интриг, коррупции в судах24. Упадок поздневизантийского общества стал притчей во языцех. Спустя сто лет Иван Пересветов в «Большой челобитной царю Ивану Грозному» (1548 г.), ссылаясь на молдавского господаря Петра IV, дает диагноз смертельной болезни: «При царе Константине Ивановиче управляли царством греческие вельможи. Крестное целованье они ставили ни во что, совершали измены, несправедливыми судами своими обобрали они царство, богатели на слезах и крови христиан, пополняли богатство свое бесчестным стяжаньем. Сами они обленились и не стояли крепко за веру христианскую и в царе укротили воинственность ворожбой, путями соблазна, еретическим чародейством. Так отдали они иноплеменникам-туркам на поругание и греческое царство, и веру христианскую, и красоту церковную»25.
Несмотря на героическое сопротивление защитников во главе с императором Константином XI, 29 мая 1453 г. Константинополь пал. Восточная Римская империя отошла в историю.
4. Москва на страже Православия
В то время как Новый Рим доживал свои последние дни в качестве столицы Христианского царства, в Москве развернулась настоящая борьба за Православие. В подготовке и заключении Флорентийской унии активнейшую роль играл грек Исидор, назначенный по настоянию императора митрополитом Киевским и всея Руси. На него была возложена забота о финансовом обеспечении поездки императора и патриарха в Италию. Исидор должен был заручиться поддержкой великого князя Московского Василия II, который разрешил митрополиту ехать к папе, взяв с него клятвенное обещание защищать чистоту веры. Но когда Исидор вернулся в Москву в качестве папского легата и провозгласил акт об унии с Римом, он был немедленно низложен собором русских епископов и арестован. Вскоре он бежал на Запад, лично участвовал в последней битве за Константинополь, чудом избежал плена и умер в 1463 г. в Риме в качестве униатского Константинопольского патриарха26.
Многие образованные византийцы считали в то время возможным и даже необходимым использовать для спасения родины все возможные способы, не исключая измены Православию. Подобное поведение было не чуждо и некоторым деятелям русской истории — например, Даниилу Галицкому, который в 1253 г. согласился принять королевскую корону из рук папы, оправдывая это необходимостью совместной с Западом борьбы против монголов. Но Даниил не заключал унии, быстро убедившись в обманчивости своих надежд. Более того, постоянные войны с немецкими крестоносцами и правителями Литвы убеждали русских князей в том, что западные соседи-христиане ничем не лучше восточных иноверцев. А их религиозная экспансия угрожает духовному фундаменту, на котором московские князья возводили новое государство.
В Москве было прекрасно известно, что Флорентийская уния была заключена при непосредственном участии византийского императора и вселенского патриарха. Об этом, в частности, писали Василию II греческие монахи Святой Горы Афон, которые во главе со своим протом резко выступили против унии: «Увы, сколь великая прелесть постигла царя греческого! Увы, сколь великая тьма и тягота постигла царствующий град и церковь соборную злым советом вельмож и ложных святителей! О, лютое падение такого высокого и крепкого благочестием рода, ныне же перешедшего от света во тьму, так как всхотел он очами своими увидеть такую мерзость и свою благочестивую веру продать за золото бесстыжим латинянам!»27
Однако великий князь Московский, защищая Православие делом, не спешил бросать упреки императору и патриарху. В письмах, которые Василий II составил для отправки в Константинополь, единственным виновником смуты выставлен Исидор. Впрочем, за дипломатичным фасадом читается нелестная для греков мысль о том, что теперь Русь стоит на страже их собственной духовной традиции. Московский князь напоминает, что Русская Церковь более 450 лет верно хранит Православную веру, полученную от греков «Новым Константином — благочестивым царем (sic!) Русской земли Владимиром», и уведомляет, что присланный из Византии Исидор «поддал и поработил Россию под отлученную, за многие ереси, святыми и богоносными отцами
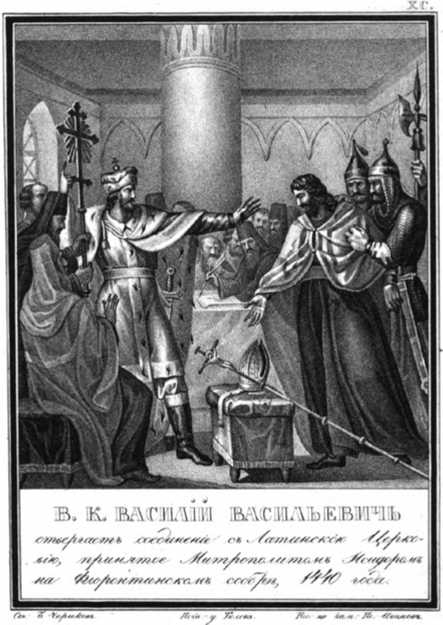
Великий князь Василий Васильевич отвергает соединение с Латинскою церковью, принятое митрополитом Исидором на Флорентийском соборе 1440 г. Худ. Б. А. Чориков, 1836 г.
Римскую церковь», за что и был низложен Собором русских епископов — по канонам «святой великой соборной апостольской Божией Церкви греческой, вашего истинного православия». Великий князь направляет в Константинополь папские грамоты, изъятые у Исидора, и в ответ просит дозволения, чтобы Русская Церковь самостоятельно ставила митрополита. Речь еще не идет об автокефалии: русский митрополит по-прежнему будет утверждаться патриархом, и московский князь всячески подчеркивает, что хочет «иметь любовь со святым царем» и что русские православные будут «вечно неразлучны с греками»28.
В 1448 г., убедившись в униатской политике Византии, московский князь созвал собор, избравший митрополитом русского епископа Иону. Русская Церковь стала автокефальной. Это было вынужденное решение, поскольку в Константинополе вообще не было патриарха: униат Григорий Мамма бежал в Рим, не вынеся обструкции со стороны православного большинства. Но в Москве до последнего момента надеялись на лучшее, и Василий II продолжал писать Константину XI как «ревнителю благочестия и непреклонному истинному поборнику и управителю непорочной православной христианской веры»29. В это время, летом 1453 г., в Москву пришла весть о падении Царьграда.
Катастрофа Византии привела к кризису мирового Православия. Несмотря на то, что в 1443 г. три восточных патриарха — Филофей Александрийский, Дорофей Антиохийский, Иоаким Иерусалимский — осудили Флорентийскую унию, активная деятельность папского эмиссара Жибле привела к тому, что в 1458 г. те же Филофей и Иоаким вместе с патриархом Антиохии Иоакимом II поддержали унию с Римом, и в 1461 г. Жибле торжественно подписал ее в Риме от их имени. Однако вскоре Иерусалимский патриарх раскаялся в содеянном — и принял неожиданное решение: отправиться в далекую Москву. По дороге он заболел и умер в Крыму, но успел отпустить грехи великому князю и благословить православный русский народ30.
С поездкой Иоакима Иерусалимского, первого вселенского патриарха31, связавшего свои надежды с Россией, сопряжено знаковое событие. Его протосинкелл Иосиф, доехавший до Москвы, был в 1464 г. рукоположен митрополитом всея Руси Феодосием на кафедру митрополита Кесарии Палестинской. На церемонии он торжественно отверг и осудил «богоненавистные и нечистые» решения Флорентийского собора. Это событие утверждало статус Русской Церкви как автокефальной Поместной Церкви, стоящей на страже Православия.
В официальном акте, адресованном палестинским христианам, говорилось, что поставление Иосифа совершено «по благословению и побуждению патриарха Иоакима, по воле и по совету самодержца великого князя Ивана Васильевича всея Руси»32. Так 24-летний Иван III, недавно вступивший на московский престол, не только продемонстрировал себя правителем объединенной Руси, но впервые реализовал прерогативы византийского императора, выступив в качестве опекуна мирового Православия33.
5. Формирование концепции «Москва — Третий Рим»
К концу XV в. в мире практически не осталось независимых православных государств. Османская империя поглотила Болгарию (1422), Византию (1453), Сербию (1459), Морею (1460), Трапезунд (1461), Боснию (1463), княжество Феодоро (Мангуп) в Крыму (1475), подчинила Валахию и Молдову и добивала анклавы на Балканах. На востоке Грузинское царство распалось на несколько частей, которые вскоре были поделены на сферы влияния Турции и Персии. Казалось, сбывалось древнее пророчество, согласно которому по истечении семи тысяч лет в мире должен воцариться антихрист. По византийскому счету 7000 год от сотворения мира наступал в сентябре 1491 года.
Разумеется, не все верили в эсхатологическое значение круглой даты. Кто-то, помня, что Сам Христос запретил вычислять «времена и сроки» (Деян 1:7), считал, что время конца света неопределимо (например, Исаак Аргир)34. Кто-то вместе с Геннадием Схоларием (который стал при османах Константинопольским патриархом и, с их полного одобрения, разорвал унию с папством) отодвигал предел еще на 500 лет, в «середину 8-го дня» (7500 год = 1991/2 г. н.э.)35. Кто-то (как Мануил Критопул) указывал на циклический характер мировой истории, призывая не драматизировать переход империи к туркам (что означало отказ от традиционной идеи о цепочке мировых царств, завершающейся Римом)36. А наиболее «прогрессивные» умы, наподобие философа-платоника Плифона, вообще грезили скорым возникновением некоей новой, «истинной», неоязыческой религии, которая сменит христианство и ислам37.
Эсхатологические ожидания распространились по всему христианскому миру, затронув широкие массы. На Руси конец света ожидался уже в 1459 г., когда Пасха совпала с Благовещением (такое же сочетание, по расчетам пасхалистов, было в день Воскресения Христова, 25 марта 31 г. н. э.). Русский летописец отмечал: «Писано в пасхалии: „Братья, здесь страх, здесь беда велика, здесь скорбь немалая… Сей год в конце оказался, в него ждем всемирное пришествие Христово. О Владыка, умножились беззакония

Иван III Васильевич на памятнике 1862 г.
наши на земле, пощади!.. Господь ведь не хочет смерти грешникам, но ожидает покаяния“. И в тот год не было ничего»38. При составлении пасхальных таблиц никто не решался перешагнуть 7000 год: все списки в страхе останавливались на этой дате.
В дискуссиях вокруг эсхатона выяснилась одна деталь: византийская эра опиралась на даты Сеп-туагинты, тогда как в еврейских списках Торы, как и в латинской версии Ветхого Завета, хронология патриархов до и после Потопа была намного короче, и 1492 г. н. э. оказывался не 7000 годом мира, а 5252. Составленные по этой короткой эре западные пасхалии, т. н. Шестокрылы, получили известность на Руси и смущали умы. Получалось, что по этому счету время пришествия Христа, 5500 год мира, еще вообще не наступило… Пошатнулись сами устои христи-
«Тысячелетие России» в Великом Новгороде анства, породив движение жидов-ствующих — православных интеллектуалов, доверявших «краткой хронологии», поскольку она опиралась не на греческий перевод, а на древнееврейский оригинал Священного Писания. В связи с этим архиепископ Геннадий Новгородский писал в 1487 г. епископу Сарскому Прохору: «Они хотят явить эту прелесть, когда закончится наша пасхалия. <…> Ведь у них еще пришествия Христова не было, так что они ждут антихриста. Это великий соблазн!»39
В этой накаленной атмосфере с особой силой проявлялась та новая роль, которую волей-неволей начал играть государь Московской Руси. Иван III, сменивший в 1462 г. на престоле своего многострадального отца, Василия Темного (прозванного так после ослепления во время очередной усобицы), год за годом делал свое главное дело — собирал земли Руси. За годы его правления территория государства увеличилась почти в семь раз (крупнейший прирост за всю историю России). Но самым важным событием его правления стало окончательное обретение суверенитета: в 1480 г., в результате сражения на Угре, было свергнуто многовековое ордынское иго.
Это событие было с воодушевлением встречено по всей Русской земле. В одной из летописей по этому поводу дается любопытное наставление: «Храбрые, мужественные сыны русские! Старайтесь сохранить свое отечество, Русскую землю, от поганых, не пощадите своих голов — да не узрят очи ваши пленения и грабежа святых церквей и домов ваших, убиения чад ваших, поругания женам и дочерям вашим, как пострадали другие великие и славные земли от турков — я имею в виду болгар, греков, трапезундцев, Морею, албанцев, хорватов, Боснию, Мангуп, Кафу и иные многие земли, которые не стали мужественными, погибли и погубили отечество свое, землю и государство, и скитаются по чужим странам, точно бедные странники, достойные многого плача и слез, укоряемые, поносимые и оплевываемые как немужественные.
<…> Так мы, убогие, своими глазами грешными видели великих государей, бежавших от турков с состоянием, скитающихся как странники и смерти у Бога просящих как расплаты за такую беду. Пощади, Господи, нас, православных христиан, молитвами Богородицы и всех святых, аминь!»40
Трансформация Московского государства из раздираемого смутами и опустошаемого постоянными набегами татар вассального княжества в настоящую великую державу нашла отражение в титулатуре и символике. На печати великого князя появляется двуглавый орел — что обычно связывается с браком Ивана III и Зои (Софьи Фоминичны), родной племянницы последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Впрочем, сам по себе этот династический символ Палеологов не означал притязаний на византийское наследство: это был, скорее, символ империи как таковой (такой же орел красовался и на гербе «Священной Римской империи» Габсбургов). Характерно, что в русских источниках прибытию Софьи уделяется не много внимания: ведь вся история с этим браком плохо вписывалась в общую концепцию становления России как оплота Православия41.
Принцесса Зоя, дочь деспота Фомы Палеолога и итальянки, в детстве бежала с родителями из захваченной турками Греции и после их смерти воспитывалась греком-кардиналом Виссарионом, одним из самых активных униатов. Идея выдать ее за московского князя родилась в Италии. Во-первых, сильный московит мог стать важным союзником в борьбе с экспансией турок; во-вторых, Зоя, воспитанная при папском дворе, могла решительно продвинуть дело унии. Для молодого вдовца Ивана III (в то время еще ордынского данника) это было лестное предложение, и дело было улажено довольно быстро: 1 июня 1472 г. в Риме состоялось заочное обручение «великого герцога Ивана Московского» и «благородной матроны Зои». Церемония была проведена в соборе Св. Петра католическим епископом, в присутствии матери Лоренцо Медичи и других знатных дам и вельмож. В Россию Зоя отправилась с напутствием папы Сикста IV и Виссариона, в сопровождении папского легата. Однако надежды на ее миссию не оправдались. Оказавшись в православной стране, гречанка сразу же вернулась к вере предков и использовала свои итальянские связи только с целью укрепления величия и могущества своей новой родины. Именно вызванные ею итальянские мастера построили в 1479 г. в Московском Кремле новый Успенский собор — главный сакральный символ России.
София Фоминична пользовалась уважением за свою мудрость и властный характер. Но ни о каком византийском наследии в связи с ее приездом в Россию не было и речи: все права на императорский престол унаследовал ее брат Андрей Палеолог (который в ходе своих скитаний по Европе умудрился продать их и французскому королю, и испанскому).
По благополучном завершении 7000 года московский митрополит Зосима решился, наконец, обнародовать пасхалию на 8-е тысячелетие (1492–2492 гг.), «в которое ожидаем всемирного пришествия Христова». Предварялась она такими словами: «И ныне, в эти последнии годы, яко же и в первые, прославил Бог просиявшего в православии благоверного и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси, нового царя Константина новому граду Константину — Москве, и всей Русской земле и иным многим землям государя»42.
Позже выяснится, что эсхатологический оптимизм Зосимы подпитывался тайными симпатиями к «жидовствующим». Однако стараниями св. Геннадия Новгородского, св. Иосифа Волоцкого и других ученых иерархов опасная ересь, поразившая самого митрополита и имевшая покровителей при великокняжеском дворе, была устранена. Православная традиция, более тысячи лет хранившаяся в Византии, вступила в 8-е тысячелетие под защитой Русской Церкви и русского самодержца.
Именно в эсхатологическом контексте родилась знаменитая концепция «Москва — Третий Рим»43. Около 1523 г., в правление сына Ивана III и Софьи Фоминичны великого князя Василия III (1505–1533), некий монах Филофей из псковского Елеазарова монастыря, находившегося на западной окраине Русского государства, написал письмо местному чиновнику М. Г. Мунехину, по прозвищу Мисюрь. Михаил Григорьевич, служивший дьяком при псковском наместнике и фактически управлявший этим богатым городом, недавно присоединенным к Московскому государству, был одним из образованнейших людей своего времени и водил знакомство с иностранцами. Среди них был немец Николай Булев, врач и астролог Василия III, прогнозы которого заставили Мисюря-Мунехина обратиться за советом к Филофею. Старец, не чуждый учености, но укорененный в православной традиции, в принципе осудил увлечение астрологией, приводя не только библейские цитаты, но и научные аргументы (многие из которых можно услышать и от современных ученых). Опровергая астрологическое влияние на политические процессы, Филофей, в частности указал: «Обрати внимание, ради Господа: в какую звезду появились христианские царства, если ныне все они попраны неверными? <…> Девяносто лет как разорено Греческое царство — и не будет воссоздано; все это случилось из-за наших грехов, поскольку они предали православную греческую веру в латинство. И не удивляйся, избранник Божий, что латиняне говорят: „Наше Римское царство пребывает непоколебимым, а если бы мы неправо верили, Господь не хранил бы нас“. Не подобает нам слушать их ложь: воистину они еретики, по своей воле отпавшие от православной христианской веры… И хотя стены, колонны и трехэтажные дворцы великого Рима не пленены, но души их пленены диаволом из-за опресноков. А внуки Агари, хотя и захватили Греческое царство, но веры не повредили и греков не принуждают отступать от веры. Так или иначе, Римское царство нерушимо, так как Господь был записан в римскую власть». Но как совместить идею о невозможности гибели Римской державы с очевидным фактом духовного крушения Первого Рима и политического — Второго? И тут русский инок осторожно высказывает смелую мысль: «На этом прекратив обсуждение данного вопроса, скажем несколько кратких слов о нынешнем православном царстве пресветлейшего и высокостолнейшего государя нашего, единственного во всей поднебесной царя христиан и браздодержателя святых Божьих престолов святой вселенской апостольской Церкви, занявшей место Римской и Константинопольской, что находится в богоспасаемом граде Москве — святого и славного Успения Пречистой Богородицы, которая одна во вселенной светится ярче солнца. Знай, христолюбец и боголюбец, что все христианские царства пришил к концу и сошлись в одно царство нашего государя: по пророческим книгам это и есть Римское царство. Итак, два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Многократно и апостол Павел упоминает Рим в посланиях, а в толковании сказано: Рим — весь мир». Возведя Русское государство на вершину мировой истории, Филофей делает из этого далеко не политические, а исключительно нравственные выводы: «Видишь ли, избранник Божий, что все христианские царства затоплены неверными, и только царство одного нашего государя стоит, благодатью Христовой? И подобает царствующему держать его с великим опасением и к Богу обращением, не уповать на золото и преходящее богатство, но уповать на все дающего Бога»44.
Идея Филофея, высказанная в частной переписке, вскоре обрела популярность. Появилось множество редакцией и переработок его послания, в которых адресатом стал сам великий князь Василий III. Однако в государственных актах идея Третьего
Рима не нашла никакого отражения. Великие князья, а с 1547 г. — цари всея Руси никогда не заявляли официальных претензий на «римское наследие». Более того, в русском дипломатическом протоколе «государем Римским и Румским» титуловался турецкий султан45.
Представление о России как об империи (царстве), сменившей Византию, имело не внутренний, а внешний источник. Первыми императорский титул (imperator, keyser) начали применять к московским государям правители западных государств: Швеции, Дании, Ливонского и Тевтонского орденов, Ганзейского союза, а также римско-германской Империи Габсбургов — и именно этот прецедент лег в основу принятия императорского титула Петром I46. Позже и, очевидно, независимо от этого титул «кротчайших и великих василевсов» появляется в посланиях в Москву патриархов и других духовных лиц Православного Востока47. В 1547 г., когда вступивший в совершеннолетие Иван IV Грозный был торжественно венчан на царство, его царский титул никак не был увязан ни с падением Византии, ни с происхождением Софьи, бабки царя. Более того, царский титул великих князей Московских преподносился как восстановление древних прав Владимира Мономаха, который будто бы получил царский венец от своего деда, византийского императора, а династическая легенда вела род Рюрика не от кого иного, как «от римского царя Августа»48. Именно эти наследственные права и стали основой для легитимизации власти русских царей, как Рюриковичей, так и Романовых, вплоть до Петра I. Формула «Монархия великого Российского царствия» в официальном Титулярнике 1672 г. гласит: «Великих государей царей и великих князей Российских корень изыде от превысочайшего цесарского престола и прекрасноцветущего и пресветлого Августа Цесаря, обладающего всею вселенною»49. В этом преломлении Россия представала не столько как Третий Рим, пришедший на смену Риму и Константинополю, сколько как самодостаточное, параллельное Римской империи и Византии «вселенское» государство, с собственными древними корнями, которое просто оказалось более стойким и выносливым как в духовном, так и в политическом плане.
Единственным официальным текстом, где зафиксирована формула «Москва — Третий Рим», является Грамота об учреждении в России патриаршего престола 1589 г., где Константинопольский патриарх Иеремия II говорит едва ли не словами старца Филофея: «Твое, о благочестивый царь, великое Российское Царство, Третий Рим, всех превзошло благочестием, и все благочестивые царства собрались в одно твое, и ты один под небом именуешься христианским царем во всей вселенной, у всех христиан, и по Божью промыслу и милости Пречистой Богородицы, по молитвам новых чудотворцев великого Российского Царства — Петра, Алексея и Ионы, и по твоему царскому прошению у Бога, твоим царским советом, пусть будет исполнено это превеликое дело»50.
Выводы
Россия, оставшаяся к концу XVI в. единственным в мире сильным православным государством, была признана в качестве правопреемницы Византии не в политическом, а исключительно в духовном смысле — как продолжательница дела нравственного воспитания человечества, начатого Константином Великим. Эта миссия не подразумевала никаких политических прав и интересов — ни на Константинополь, ни на какие-либо иные города и земли. Более того, любые мирские цели являлись оскорблением сакрального статуса «Римского царства», понимаемого в традиционной эсхатологической перспективе — как последнее мировое государство, которое встретит Второе Пришествие Христа. А потому не военно-политические интересы, не экономика, не светская культура и наука, а христианская нравственность должна были составлять главное содержание российской государственности. Все прочее было средствами, а не целями этой универсальной, общечеловеческой социальной миссии.
Сокращения
PG. — Patrologiae cursus completes. Series Graeca / Ed. J.-P. Migne.
PL. — Patrologiae cursus completes. Series Latina / Ed. J.-P. Migne.
АИ. — Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией.
БЛДР. — Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Пушкинский дом.
ЛЗАК. — Летопись занятий Археографической комиссии при Имп. АН. СПб.
ПСЗРИ. — Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830.
ПСРЛ. — Полное собрание русских летописей.
ПЭ. — Православная энциклопедия.
РИБ. — Русская историческая библиотека.
СГГД. — Собрание государственных грамот и договоров.
Список литературы Московская Россия как преемница Византии (формирование нового оплота мирового православия в XV-XVII вв.)
- Акишин С. Ю. Митрополит Исидор Киевский (1385/1390–1463). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018.
- Византийский сатирический диалог / Пер. С. В. Полякова и И. В. Феленковская. Л.: Наука, 1986.
- Дмитриева Р. П. Сказание о князьях Владимирских. М. – Л.: АН СССР, 1955.
- Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М. – Л.: АН СССР, 1955.
- Ким Н. Тысячелетнее царство. СПб.: Алетейя, 2003. (Византийская библиотека).
- Кирьянов Б. Полное изложение истины о тысячелетнем Царстве Божием на земле. СПб.: Алетейя, 2001. (Византийская библиотека).
- Кузенков П. В. Первенство Константинополя: мифы и реальность. М.: Познание, 2022.
- Кузенков П. В. Христианские хронологические системы. М.: РИЦ, 2008.
- Легеев М., свящ, Макаров Д. И., Василик В., протодиак., Даренский В. Ю., Скотникова Г. В., Сокурова О. Б., Кибальниченко С. А., Стогов Д. И., Павлюченков Н. Н., Ермишина К. Б., Иванов И., свящ, Гаврилов И. Б. «Москва — Третий Рим»: к 500‑летию русской средневековой историософской концепции. Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет» // Русско-Византийский вестник. 2024. № 4 (19). С. 34–73.
- Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV–XV вв. СПб.: Алетейя, 1997. (Византийская библиотека).
- Панченко К. А. Иоаким // ПЭ. Т. 6. М., 2010. С. 148–149.
- Пирлинг П. Россия и Восток: царское бракосочетание в Ватикане, Иван III и София Палеолог. СПб.: А. С. Суворин, 1892.
- Россия и греческий мир в XVI веке / Ред. С. М. Каштанов, Л. В. Столярова, Б. Л. Фонкич. Т. 1. М.: Наука, 2004.
- Савва В. Московские цари и византийские василевсы. Харьков: М. Зильберберг и сыновья, 1901.
- Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М.: Индрик, 1998.
- Успенский Ф. Б. Царь и император. М.: ЯРК, 2000. (Язык. Семиотика. Культура).
- Царский Титулярник / Ред. Ю. М. Эскин. М.: Фонд С. Столярова, 2007.
- Acta et diplomata Graeca Medii Aevi sacra et profana. Vol. II: Acta Patriarcharus Constantinopolitani MCCCXV–MCCCCII / Ed. Fr. Miklosich & Jos. Müller. Wien: C. Gerold, 1862.
- Analecta Byzantino-Russica / Ed. W. Regel. Petropoli: Eggers & Glasunoff, 1891.
- Bauer W. Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity. Philadelphia: Fortress Press, 1971.
- Baynes N. H. Constantine the Great and the Christian Church. London, 1929. (Proceedings of the British Academy; 15).
- Baynes N. H. Eusebius and the Christian Empire // Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientales. T. 2. 1933–34. P. 13–18.
- Beck H.-G. Ideen und Realitaeten in Byzanz. London: Variorum Reprints, 1972. (Variorum; CS13).
- Collectio librorum juris Graeco-Romani ineditorum. Ecloga Leonis et Constantini; Epanagoge Basilli Leonis et Alexandri, edidit C. E. Zachariae a Łingenthal. Leipzig: Barth, 1852.
- Corpus Iuris Civilis. Vol. 3: Novellae / Ed. R. Schoell, absolvit Gu. Kroll. Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1954.
- Critobuli Imbriotae Historiae / Ed. D. R. Reinsch. Berlin & New York: W. de Gruyter, 1983. (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 22).
- Finegan J. Handbook of Biblical Chronology: Principles of time reckoning in the ancient world and problems of chronology in the Bible. Peabody (MA): Hendrickson, 1998.
- Hippolyte. Commentaire sur Daniel / Ed. M. Lefèvre. Paris: Cerf, 1947. (Sources chrétiennes 14).
- Jus Graecoromanum / Ed. I. Zepos et P. I. Zepos. Aalen: Scientia, 1962. 8 t.
- La satira bizantina dei secoli XI–XV / A cura di R. Romano. Torino: Unione Tipografica, 1999.
- Lactantius. Opera omnia / Ed. S. Brandt et G. Laubmann. Wien, 1893. (CSEL; 19).
- Les lois religieuses des empreurs romains de Constantine à Théodose II (312–438). Vol. I: Code Théodosien XVI / Trad. J. Rougé, introd. et notes: R. Delmaire, F. Richard et d’une équipe du GDR 213. Paris: Cerf, 2005. (Sources chrétiennes 497).
- Mosshammer A. A. The Easter Computus and the Origins of the Christian Era. Oxford e. a.: Oxford Univ. Press, 2008. (Oxford Early Christian Studies).
- OEuvres complètes de Georges Scholarios / Ed. L. Petit, X. A. Sidéridès, M. Jugie. Paris: Maison de la bonne presse, 1928–1936. 8 t.
- Pitsakis C. G. Empire et Eglise (le modèle de la Nouvelle Rome): la question des orders juridiques // Diritto e religione. Da Roma a Costantinopoli a Mosca. Rendiconti dell’ XI Seminario “Da Roma alla terza Roma” (1991). Roma, 1994. P. 107–123.
- Podskalsky G. Byzantinische Reichseschatologie: Die Periodisierung der Weltgeschichte in den vier Grossreichen (Daniel 2 und 7) und dem Tausendjärigen Friedensreiche (Apok. 20). Eine motivgeschichtliche Untersuchung. München: Fink, 1972.
- Podskalsky G. Politische Theologie in Byzanz zwischen Reichseschatologie und Reichsideologie // Cristianità d’Occidente e Cristianità d’Oriente (secoli VI–XI). Spoleto: C. I.S. A.M., 2004. (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo 51). P. 1421–1433.
- The Cambridge Companion to the Age of Constantine / Ed. N. Lenski. Cambridge: University Press, 2006.
- The Civil Law / Translated from the original Latin, edited, and compared with all accessible systems of jurisprudence ancient and modern by S. P. Scott. Cincinnati: The Central Trust Company, 1932. 17 vols.
- The Patriarch and the Prince: The Letter of Patriarch Photius of Constantinople to Khan Boris of Bulgaria / Trad. D. S. White and J. R. Berrigan. Brookline (MA): Holy Cross Orthodox Press, 1982.