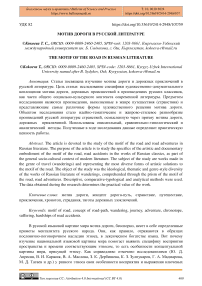Мотив дороги в русской литературе
Автор: Кокоева Т.С.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 10 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению мотива дороги и дорожных приключений в русской литературе. Цель статьи: исследование специфики художественно-документального воплощения мотива дороги, дорожных происшествий в произведениях русских классиков, как части общего социально-культурного контекста современной литературы. Предметом исследования являются произведения, выполненные в жанре путешествия (странствия) и представляющие самые различные формы художественного решения мотива дороги. Объектом исследования стало идейно-тематическое и жанрово-стилевое разнообразие произведений русской литературы странствий, осмысленную через призму мотива дороги, дорожных приключений. Использованы описательный, сравнительно-типологический и аналитический методы. Полученные в ходе исследования данные определяют практическую ценность работы.
Мотив дороги, концепт дорога-путь, странствие, путешествие, приключения, хронотоп, страдания, тяготы дорожных злоключений
Короткий адрес: https://sciup.org/14131409
IDR: 14131409 | УДК: 82 | DOI: 10.33619/2414-2948/107/59
Текст научной статьи Мотив дороги в русской литературе
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
В русской языковой картине мира мотив дороги, бесспорно, несет в себе определенные приметы менталитета русского народа. Они, как правило, отражаются в образцах пословично-поговорочном наследия этноса, в лексическом богатстве языка. Вот почему изучение национальной языковой картины мира помогает выявить специфику восприятия пространства и времени соответствующим этносом, то есть особенности концептуальной картины мира, присущей этносу. Как справедливо отмечено исследователями (Ю. Д. Апресян, В. И. Карасик, В. А. Маслова, З. К. Дербишева, К. З. Зулпукаров, Г. А. Мадмарова, М. Д. Тагаев и др.) у разного этноса свои особенности восприятия и выражения ключевых концептов картины мира этноса. Русский национальный характер формировался на огромных евроазийских просторах: это то горы, то безконечные равнины, степи, реки, леса. Не случайно, Н. А. Бердяев говорил о «географии русской души», справедливо сетовавший, что огромные пространства в свою очередь негативно сказались на русском характере [1].
В. В. Колесов в книге о русской ментальности подчеркивает, что у русского народа концепт дорога чаще связана с горем, страданиями, дорожными мытарствами [ 2 ] , на самом деле, нужно громадное терпение и сила воли для преодоления таких пространств и препятствий.
В русской литературе находим немало текстов, в которых дорога ‒ это древний образ-символ, спектральное звучание которого очень широко и разнообразно. Чаще всего образ дороги в произведении воспринимается в качестве жизненного пути героя, народа или целого государства. «Жизненный путь» в языке ‒ пространственно-временная метафора, к использованию которой в своих произведениях прибегали многие классики: Н. М.Карамзин, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Н. А. Некрасов, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, А. Т. Твардовский, Ч. Т. Айтматов и др. Мотив дороги символизирует и такие процессы, как движение, поиск, испытание, обновление. Берем ли мы образцы гражданской, философской, пейзажной, любовной лирики везде ощущается авторское желание «по своему» решить мотив дороги. Весьма часто в любовной лирике дорога символизировала разлуку, расставание. Ярким примером такого осмысления образа пути стали стихотворения А.С. Пушкина «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой», «Таврида».
А М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Выхожу один я на дорогу» прибегает к использованию мотива дороги, чтобы показать обретение лирическим героем гармонии с природой.
Приобретая мертвые души, герой Н. В. Гоголя Чичиков странствует по деревням Российской губернии. А яркий образ Русь-тройки стал для автора стимулом к творчеству, к поиску истинного пути человечества. Дорога, тройка символизируют надежду на то, что такой путь станет судьбой его потомков.
В поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», где семеро мужиков в поисках счастливого человека «ногами перемеряли» Русь-матушку, тема пути отражает духовное движение крестьян и всей России второй половины XIX века к новой жизни [ 3 ] .
Если в дореволюционных текстах русской классики мотив дороги чаще всего художественный способ показа тягот, лишений народа, то в произведениях советских писателей (В. В. Маяковский, Д. Бедный, С. А. Есенин, М. В. Исаковский, В. Лебедев-Кумач и др.) находим чаще оптимистическое ее решение. Блоковские 12 красногвардейцев идут державным шагом по улицам революционного Петрограда с намерением раздуть мировой пожар. Лирический герой В.В. Маяковского «себя под Лениным чистить, чтобы плыть в революцию дальше». Успехи многонационального СССР вдохновили многих поэтов на прямолинейное выражение патриотических чувств: «Человек проходит как хозяин по необъятной родине своей…» (В. Лебедев-Кумач. Песня о Родине); «Прохожу я по Стране Советов как хозяин суши и морей» (М. В. Исаковский. «Ты по стране идешь»). Такое наполнение концепта путь-дорога было лишь одной гранью этой темы, правда, она превалировала в советской литературе предвоенной поры, сказавшись и на мотивном репертуаре поэтов содружества. С иными акцентами мотив дороги решается в произведениях, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны не было ни одного поэта, писателя, который бы не отдал честь мотиву ратных дорог солдата, защитника Отечества. Вспомним, «По дороге военной мимо отчего еду крыльца» А. Т. Твардоского, «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Дорожные стихи» К. М. Симонова, «Я на подвиг тебя провожала» В. И. Лебедева-Кумача, «Я песней, как ветром, наполнил страну, о том, как товарищ пошел на войну» А. Прокофьева, «В путь!» В. Рождественского, «Путь далек у нас с тобою» М. Дудина, «Вернулся я на родину» М. Матусовского.
Подлинными шедеврами поэзии военной поры стали стихотворения и песни «Эх, дороги, степь да туман». Л. И. Ошанина и «Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а дорогою степною шли домой советские солдаты» А. Коваленкова и М. Блантера. И по сей день нас трогают строки: «Знать не можешь доли своей, может крылья сложишь посреди степей… эх дороги, пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян». Подобные строки мог создать только подлинный солдат, прошедший все пути-дороги войны, от Москвы и до Бердина. Да ведь и после победы, многим из них приходилось возвращаться не в поездах, заваленных цветами, а чаще снова идти степными, пропыленными дорогами («А дорогою степною, шли домой советские солдаты…») (А. Коваленков. «Солнце скрылось за горою»). И очень часто вчерашние воины-победители вместо дома находили только разрушенные хаты да пепелища. Об этом рассказал в стихотворении «Враги сожгли родную хату» М. В. Исаковский. Вернулся воин-победитель с «медалью за город Будапешт», а семьи и хаты и в помине нет. Пришлось солдату идти «на перекресток трех дорог» и найти там незаметный бугорок могилки, убитой врагами жены и пить победное вино «с печалью пополам». Такова она солдатская доля и солдатская дорога возвращения домой с войны.
Вернулся солдат Андрей Синцов с войны («Дом у дороги» А. Т. Твардовского) и нашел только руины. А его жену с детьми фашисты угнали в рабство на неметчину. Снова солдату приходиться брать в руки топор, надо отстраивать дом, теплится в душе бывшего фронтовика надежда, может быть и вернется жена с детьми из далекой Германии. Все четыре года Андрей повторял: «Лиха беда-пути начало…». И в солдатском окопе он полагал: «В пути за тридевять земель, у Волги ли, у Дона, свою в виду держал цель солдат – дойти до дома». Исследователями (А. Абрамов, А. Турков) отмечено, что мотив дороги у Твардовского – ключевая деталь его поэм «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью даль», «По праву памяти».
В поэме «За далью даль» дорога от Москвы и Волги на Дальний Восток для лирического героя А. Т. Твардовского стала формой утверждения главной идеи произведения: «За годом год, за вехой веха, за полосою полоса, нелегок путь, но ветер века, он в наши дует паруса!».
Благодаря трудам М.М. Бахтина и введенному им понятия хронотоп, есть возможность проследить общие черты и различия, эволюцию мотива дороги, как ключевой категории литературы странствий, в текстах классиков. Как уже нами было отмечено тема дороги – ключевая в мировой литературе. Вспомним, дорожные муки Одиссея из одноименной поэмы Гомера, странствия по аду героев Вергилия, Рабле, из «Декамерона» Боккаччио, из рыцарского романа Сервантеса и др.
Понятие хронотоп, как обозначение времени и пространства определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности. Поэтому хронотоп в произведении всегда включает в себя ценностный момент, который может быть выделен из целого художественного хронотопа только в абстрактном анализе. Оно схватывает хронотоп во всей его целостности и полноте. Искусство и литература пронизаны хронотопическими ценностями разных степеней и объемов. Каждый мотив, каждый делимый момент художественного произведения является такой ценностью. В мировой литературе весьма распространены хронтопы встречи, узнавания-неузнавания. С ними связан хронотопы дороги и пути. Встречи в романе обычно происходят на «дороге». Дорога ‒ преимущественное место случайных встреч. На дороге («большой дороге») пересекаются в одной временной и пространственной точке пути различных людей ‒ представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, кто нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью, здесь могут возникнуть любые контрасты, столкнуться и переплестись различные судьбы. Здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными дистанциями, которые здесь преодолеваются. Это точка завязывания и место совершения событий. Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая метафоризация пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую дорогу», «исторический путь», «дорожные муки» и проч.; метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень ‒ течение времени.
Устами М. В. Ломоносова, Россия молодая говорила, что знания и науки «в дальних странствиях теперь не помеха» («Ода на день восшествия императрицы Елизаветы Петровны на трон»). Так просвещенная Россия отвечала барыне Простаковой, поучавшей сына, что «географию незачем учить, кучер куда надо сам довезет» («Недоросль»).
Дорога особенно выгодна для изображения события, управляемого случайностью (но и не только для такого). Отсюда понятна важная сюжетная роль дороги в истории произведения, всевозможных дорожных происшествий, что для автора служит удачным моментом заинтересовать читателя. Дорога проходит через многие классические тексты.
Немало катаклизмов переживают герои баллад В. А. Жуковского («Людмила», «Светлана»), пушкинские герои из «Кавказского пленника», «Братьев-разбойников», Петр Гринев и Савельич в буранном бездорожье оренбургских степей («Капитанская дочка»), рассказчика в пору южного странствия («Путешествие в Арзрум»).
Немало дорожных передряг пережили и герои книг «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, странствуя от Петербурга и до берегов туманной Англии, Франции, «Путешествия в полуденную Россию» В. Измайлова, «Путешествия в Грецию» В. Щербины и др. авторов.
Радищевский путешественник («Путешествие из Петербурга в Москву») едучи из столицы в первопрестольную «узрел» многое: «нищету народа, грязь, печи без трубы, лучшей защиты от холода горшка два» (счастлива изба, коли в одном из них есть пустые шти, корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе). Тяжелые картины жизни автором показаны в главах «Спасская полесть», «Любани», «Пешки», «Городня» и др. Писатель мастерски владеет основами создания книги путевых записей, своеобразного дневника о своем странствии.
В думе «Иван Сусанин», К.Ф. Рылеев дает совершенно иную трактовку мотива дороги. Идет русско-польская война, поляки, захватив русские земли, рвутся к Москве. И в избу, где жил простой русский мужик Иван Сусанин, явились польские солдаты. Они требуют, чтобы Иван показал верную дорогу к Москве. Костромской крестьянин решительно повел врагов в гущу леса. «Куда ты ведешь нас? ... не видно ни зги!‒ Сусанину с сердцем вскричали враги!» Вскоре супостаты поняли коварный план мужика. Русский патриот пал от рук врагов-поляков, но свой долг перед родиной выполнил. Поистине, «кто русский по сердцу, тот бодро и смело гибнет за правое дело!». Но и вражеский отряд погиб в костромских лесах. Вот такие дороги и люди на русской земле. В русском языке странствий появляются новые мотивы [ 4 ] .
Вернувшийся из заморских странствий, Чацкий говорит: «И дым отечества нам сладок и приятен!». Грибоедовский герой Чацкий – умный, образованный честный, вольнолюбивый человек. Он предстает подлинным патриотом, вот почему странник с такой болью взирает на теневые стороны фамусовской Москвы. Он побывал в Европе, там он также их «минусы», но его более всего волнуют дела в родной стране. Пребывание на чужбине помогло ему понять простую истину: «С родной земли умри – не сходи!».
Огромное пушкинское наследие дает большое число форм новаторских трактовок мотива дороги. В лицейских стихах концепт путь-дороги насыщен элегически-радостными нотами больших ожиданий («указан нам путь, счастливый и славный»; «нам тайный указали вы путь», «зовет нас дальний света шум»; «невидимый стезей ушла пора веселой беспечности» и др.). Зная, что многие его лицейские друзья (В. К. Кюхельбекер, П. Пущин, А. Бестужев, К. Рылеев и др.) вступили на путь декабристского движения, поэт писал «теперь это ваша дорога!».
Многие стихи у Пушкина помогают мотив дороги осмыслять как процесс «открытия» родины, отчей земли, появления в его душе приязни к «отеческим гробам» («Простите, верные дубравы», «Краев чужих неопытный любитель», «Деревня», «Я вас бежал отеческие края» и др.). Вместе с тем, ссылка на юг и пребывание в Бессарабии, на Кавказе, в Крыму намного расширили дорожные впечатления русского поэта, где он открывает для себя красоты иных земель, этносов, культур («Я видел Азии бесплодные пределы», «Среди зеленых волн Тавриды», «В стране, где я забыл…», «Я видел край… сады татар, селенья, города»).
В зрелую пору пушкинские шедевры («Зимняя дорога», «Дорожные жалобы», «Бесы», «Кто знает край», «На холмах Грузии», «Кавказ», «Обвал», «Был я и среди донцов», «Прощание» и др.) рельефно представляют карту странствий его лирического героя по городам и весям безграничной Руси. Поистине: «Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин», «все дороги занесло». Кучер пытается объяснить барину: «видно в поле бес нас водит, да кружит по сторонам». Вот и рождается в душе человека тревожные мысли: «Что ж так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?». Пол России объездил великий поэт и имел право задаваться вопросом: «Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком?» В долгой нудной дороге рождаются в душе лирического героя мысли о том, что, не в дороге ли ему суждено помереть. Великий поэт России любил жизнь, любил людей и во всем трудном, мрачном, старался найти что-то светлое, отрадное. Примечательно вспомнить, что, несмотря на тяготы жизни, бесконечные проблемы, где найти деньги, чтобы одеть красавицу жену, растить детей, этими прозаическими причинами чаще были связаны его поездки по стране, он оставался верен своей оптимистической вере в жизнь, в будущее. Его девизом были слова: «Гляжу вперед я без боязни» [ 5 ] .
А вот его преемник М. Ю. Лермонтов, как писал В. Г. Белинский поэт совсем другой эпохи, говорил: «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской и как преступник перед казнью, кругом ищу души родной».
Е. М. Пульхритудова пишет, что мотив дороги у Лермонтова ‒ ключевой и насыщен множественными вариантами [ 6 ] .
Для лирического героя Лермонтова путь – это обычно скитальчество, духовная неприкаянность, фатальное движение существа, иссушающее душу человека одиночество. Во многих его стихах дорога-бездорожье, расширяя смысловую емкость мотива, рождает, как в стихотворении «Ночь», трагическую ноту бесцельности существования («Я мчался без дорог; пред мною не серое, не голубое небо (и мнилося, не небо было то, а тусклое бездушное пространство… и летел, летел я далеко без желания и цели»)).
Вновь вспомним слова В. Г. Белинского о том, что Лермонтов-поэт совсем другой эпохи. Да, это была другая эпоха, пришедшая на смену свободолюбивым идеалам декабризма. В 20-30-е годы Россия стонала под игом николаевской империи. Метафора бездушного пространства ‒ прообраз аракчеевского безвременья, через которое пролегает «ровный путь без цели», «до времени созрелого», «заблудившегося поколения» (А. И. Герцен). В стихотворении «Листок» (1841), где выросший в «суровой отчизне» и гонимый «жестокою бурей» дубовый листок – символ трагического одиночества человека в мире, «бездомности» всего поколения. Дважды листок назван бесприютным странником. «Листок» ‒ один из последних шедевров поэта и стихотворение говорит о весомой эволюции поэтики мастера слова. Если герой ранней лирики отвергал как ложный и решительно для него неприемлемый мир беспечного блаженства, то теперь листок-странник готов искать избавления от тоски и одиночества. Он «молит» у чинары «приюта» («и странник прижался у корня чинары высокой»). Правда, чинара отказывается приютить странника («иди себе дальше», ‒ говорит она). Листок докатился до Черного моря, оно дало жизнь чинаре, но обреченному на скитание листку море сулит только гибель.
Вечное движение лирического героя поэта «без цели и следа бог весть, откуда и куда» («Демон») – это его удел. Надо сказать, даже целенаправленность пути – это движение, ведущее к гибели, что нашло отражение в стихотворениях «Спор», «Три пальмы» и др. В обоих вещах поэт реализует мотив дороги и высказывает опасения за дивную природу народов Востока, которым грозит цивилизация. В «Споре» русские войска захватывают земли кавказских народов, сообразуясь со своими политическими мотивами: покорить огнем и мечом кавказцев (история почти семидесятилетней русско-кавказской войны хорошо известна). «В глубине твоих ущелий загремит топор», ‒ говорит Казбек Шат-горе. А в восточном сказании «Три пальмы» действие происходит на аравийской земле, но и там слышен звук топора («По корням упругим топор застучал»). «Изрублены были их тела потом, и медленно жгли их до утра огнем». Не мудрено, что на месте красивых трех пальм закончилась жизнь: «и стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей».
Литературовед В. Н. Турбин считает, что это лермонтовское творение полемично к пушкинско-жуковским восточным мотивам («Подражания Корану», «Песнь араба»), так эти поэты тему араб – пустыня ‒ прохладная тень – конь решали в оптимистичном плане, а Лермонтов - в трагическом [ 7 ] .
В символически-духовном плане решена тема жизненного пути в стихотворении «Мой дом»: здесь «далекий путь» ‒ это обретение «чувства правды», творческого горения. Оно страшит героя («Кого измучил краткий путь? Меня раздавит эта вечность и страшно мне не отдохнуть!»). Мы видим, что с каждым новым произведением усиливается в его творчестве многозначность мотива пути, особенно, если автор касается темы одиночества и странничества. Это видно по его шедеврам «Тучи», «Из гете», «Спеша на север издалека», «Выхожу один я на дорогу». Во всех названных стихах, лирическое «я» от реальной земной «дороги» органично переходит к жизни вселенной. Реально-зримая дорога, тем не менее, вполне конкретна: герою «так больно и так трудно» от трудных вопросов русской неустроенной жизни. В текстах любовной лирики поэт позволял обрести себе единомышленника. Например, в стихотворном обращении к «Графине Ростопчиной», весьма умной, образованной женщине, он скажет: «Я верю: под одной звездою мы с вами были рождены; мы шли дорогою одною, нас обманули те же сны». Мотив пути-дороги М.Ю.
Лермонтов новаторски решал, разрабатывая тему свободы творчества, изгнания, утраты и обретения родины, любви. Путь-дорога у автора «Выхожу один я на дорогу» это всегда поиск истины («Глупец! Где посох твой дорожный? Возьми его, пускайся в даль»), («Когда надежде недоступной»). Тема пути духовных исканий и нелегких испытаний изгнанного людьми пророка также неотделима от образа дороги («Из городов бежал я нищий»). Она привела его в пустыню, где только и возможен свободный, творческий диалог с мирозданием: «И звезды слушают меня, лучами радости играя».
В одном из последних шедевров поэта, стихотворении «Родина» (1841) «полный гордого доверия покой» противостоит движению («проселочным путем люблю скакать в телеге…»). Последняя строка этого четверостишия («дрожащие огни печальных деревень») ассоциативно связана с образом путеводной звезды («Пророк», «Выхожу один я на дорогу» [ 8 ] .
Отдельного разбора требует новаторское решение мотива путь-дорога в прозе М.Ю. Лермонтова. Его «Бэла», «Максим Маскимыч», «Тамань» насыщены образами движения, дороги, пути. «Тамань» покоряет нас реалистическими описаниями происшествий с контрабандистами «странствующего» офицера, «да еще с подорожной по казенной надобности». Дорожная встреча – мотивировка для создания портрета и анализа характера странного Печорина. Именно в пути завязываются и разрешаются важные события романа: Казбич закалывает Бэлу на дороге во время погони; Вулич погибает по дороге домой от рук пьяного казака; отчаянную попытку перехватить Веру по дороге делает Печорин. Поистине, везде, «дорога никуда». Мотив дороги звучит и в эпиграфе, как завершение книги: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер».
Исследователи указывают: новаторские поиски автора «Мцыри» в обновлении мотива пути-дороги оказались творчески развиты поэтами его поколения и последующими авторами (А. А. Бестужев, К. Н. Батюшков, Е. Баратынский, П. А. Вяземский, Иван Козлов и др.).
Таким образом, в современной литературе сформировались основные постулаты изучения через мотив дороги, судьбы человека, житейских злоключений литературы, особенно в литературе странствия.
Список литературы Мотив дороги в русской литературе
- Бердяев H. A. Судьба России. М.: Эксмо-Пресс, 1997. 735 с.
- Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб, 2006. 23 с.
- Дырдин А. А. Скитаться по Руси с душой страдающей // Россия в зеркале времени. Ульяновск, 1996. С. 76-89.
- Шадрина И. Г. Эволюция языка путешествий. М., 2003. 102 с.
- Сооронкулов Г. Правда древнего Востока ("Путешествие в Арзрум" А.С.Пушкина) // Кыргызы и лейтмотив "Восток-Запад" в художественной аксиологии Пушкина. Бишкек, 2012. 140 с.
- Пульхритудова Е. М. Мотив пути в творчестве М. Ю. Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. 306 с.
- Турбин В. Н. Три пальмы //Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 580.
- Кедров К. А. Мотив странничества // Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 295-296.