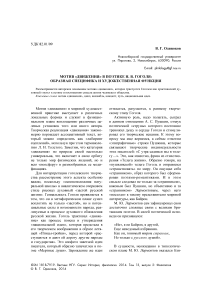Мотив "движения" в поэтике Н. В. Гоголя: образная специфика и художественная функция
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается авторское понимание мотива «движения», которое трактуется Гоголем как христианский духовный «путь» к истине и постижению смысла жизни человека и общества.
Мотив "движения", цикл, ансамбль, концепт, путь, национальная идея
Короткий адрес: https://sciup.org/147219009
IDR: 147219009 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Мотив "движения" в поэтике Н. В. Гоголя: образная специфика и художественная функция
Мотив «движения» в мировой художественной практике выступает в различных локальных формах и служит в функциональном плане воплощению различных целевых установок того или иного автора. Творческая реализация «движения» закономерно порождает ассоциативный текст, который можно определить как «лабиринт сцеплений», используя при этом терминологию Л. Н. Толстого. Заметим, что категория «движения» по природе своей настолько универсальна, что включает в свою орбиту не только мир физических явлений, но и всю «ноосферу» в разнообразных ее модификациях.
Для интерпретации гоголевского творчества рассмотрение этого аспекта особенно важно, поскольку «основоположник натуральной школы» в аналитическом очерковом стиле рисовал духовный «застой русской жизни». Гениальность Гоголя проявляется в том, что он в метафорическом плане сумел воплотить не только «застой», но и потенциальные силы и возможности народа, реализуемые в процессе духовного обновления русской жизни. Гоголь трактовал «движение» как процесс поиска и утверждения «национальной идеи», которая предстала в его творческом воображении в образе летящей «Птицы-тройки», перед которой «расступаются и дают ей дорогу другие народы и государства». Это апофеоз заветной идеи писателя, который образно запечатлен в поэме «Мертвые души». Зарождение же идеи относится, разумеется, к раннему творческому этапу Гоголя.
Активную роль, надо полагать, сыграл в данном отношении А. С. Пушкин, отзвук поэтической «струны» которого постоянно тревожил душу и сердце Гоголя и стимулировал его творческие искания. К этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас отметим «эпиграфичные» строки Пушкина, которые связывают творческие индивидуальности этих писателей: «С утра садимся мы в телегу…». Это, как известно, фраза из стихотворения «Телега жизни». Образно говоря, на «пушкинской» телеге Гоголь и отправился «странствовать» по миру. Он ощущал себя «странником», образ которого был сформирован поэтами-романтиками. И в этом смысле следовал не только за «странником», каковым был Пушкин, но объективно и за «странником» Лермонтовым, через него «восходя» к такому представителю мировой литературы, как Байрон.
М. Ю. Лермонтов сам зафиксировал свои достаточно сложные связи с великим британским поэтом. В своей поэтической исповеди он признавался:
«Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник.
Как он, гонимый миром странник , Но только с русскою душой».
В сущности, неожиданно в типологическом плане М. Ю. Лермонтов оказался бли-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 2: Филология © В. Г. Одинокое, 2014
зок к великому русскому прозаику Гоголю. В приведенных строках, по сути, объективно запечатлен духовный портрет Гоголя, который в одном из писем отмечал, что он чувствует себя «странником», в сердце которого – «Русь» [Золотусский, 1979. С. 222]. Образ «Птицы-тройки» позволил воплотить ему форму и смысл движения. В нем уже был предопределен принципиально, как бы предсказан теоретически, и только ждал своего поэтического воплощения мотив «движения». Но появлению его реально на гоголевской поэтической орбите предшествовали сложные поиски, хотя и замедленно, но целенаправленно приближавшие автора к траектории движения символического образа «Птицы-тройки». Путь этот можно проследить, если пройти за Гоголем по «лабиринту поэтических сцеплений», разгадать тайну, которую он предлагает читателям и критикам.
«Движение» просматривается достаточно четко в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Оно ощутимо уже в «Сорочинской ярмарке»: «Все неслось, все танцевало…». Картина быстро меняется, «гром, хохот, песни» смолкли и «скоро все стало пусто и глухо». Такой эффект отметил в свое время профессор Г. А. Гуковский в монографии «Реализм Гоголя» [1959]. Исследователь подчеркнул аналогичную контрастную тональность и в поэтике сборника «Миргород». В «Петербургских повестях», к которым Гоголь подошел, следуя намеченному алгоритму «движения» – от утверждения «положительного» в жизни к резкой критике «отрицательного», появляется плеяда «мертвых душ». В этом плане петербургский цикл повестей, как он сложился в результате идейно-художественных исканий Гоголя, был своеобразной «точкой», которую писатель, однако, не собирался ставить. Он только поменял вектор «движения» и его смысловые характеристики, совершив поворот от «мертвого» к «живому». В законченном варианте такой путь просматривается в поэме «Мертвые души», трехчастный план которой соотносим с Божественной Литургией, фундаментальный нравственно-религиозный смысл которой Гоголь разъяснил в своем сочинении «Размышления о Божественной Литургии».
В петербургском цикле повестей Гоголь выступает как сатирик, как обличитель того мира, в котором гибнут «униженные и ос- корбленные» «бедные люди». Но вместе с тем писатель стремится прорваться сквозь «кору земности» и подняться до таких высот духа, какие обозначены в церковных текстах, входящих в ритуал Божественной Литургии, которая указывала Гоголю путь к Божественной истине.
Что же находит читатель в цикле «Петербургские повести», в его устоявшемся, каноническом составе? Нужно учитывать, что это семь повестей, расположенных в определенном порядке. Художественная система у Гоголя настроена на то, чтобы выявить вектор «движения» обобщенной идеи в системе всех предложенных читателю повестей. Исследователь «Петербургских повестей» В. М. Маркович подчеркивал структурно-поэтическое многообразие повестей, которые сводятся в единый ансамблевый цикл, «требующий разгадки» [1989. С. 6].
Необходимую информацию в этом аспекте читатель получает из интегрированного текста всех повестей. Знаковым отправным пунктом своеобразного «литературного путешествия» является Петербург («Невский проспект»). Это начальная «точка» повествования. Далее в повествовательном плане открывается широкая панорама столичной жизни, обозначенная характерными заглавиями, своеобразными «указателями», на которых автор фиксирует читательское внимание. Все они похожи на «верстовые столбы» и указывают на «бездушные» объекты, предметы или явления. Вот эти «пункты» по порядку: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Рим».
Первое и заключительное произведения в соотнесенности сразу же создают (даже при внешнем просмотре) определенное внутреннее напряжение. Два пункта – Петербург и Рим – программируют гипотетическое «движение» в разных сферах геополитической и культурно-исторической жизни России. Гоголь эту знаковую соотнесенность использует в дальнейшем. Следующие три повести («Нос», «Портрет», «Шинель»), достаточно подробно рассмотренные нашими литературоведами, в типологическом плане демонстрируют гибель «живой жизни», так как Гоголь настоятельно подчеркивает чисто «предметный» смысл изображаемых объектов. В этом плане человек предстает как функциональная часть безду- ховного мира. Процесс «движения» связан не с личностью человека, а с модификацией несколько странных для рационального мышления «объектов». Автор изображает не столько драмы «маленьких» людей, судьбы которых в условиях петербургской жизни достаточно сносны, сколько драматические коллизии, связанные с «судьбой» носа, портрета, шинели. Гоголь выступает здесь как сатирик и пародист. В таком ключе трактуется автором своеобразная «вступительная» часть «Петербургских повестей».
Далее, как уже сказано, следуют повести «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Рим». В этом контексте повесть «Рим» обретает дополнительный смысл, так как автор открывает читателю значение России в «мысли Бога». Для Гоголя это было принципиально важно. Впрочем, такая «мысль» упорно изгонялась из работ советских литературоведов как очевидный «предрассудок» писателя
Теме «движения» Гоголь в данном случае придал особое значение. И здесь важен «образ» коляски (повесть «Коляска»). Коляска - это средство передвижения. Но писатель превратил ее в неподвижный и ненужный предмет, так как еще не появился в сознании автора «возница», способный обуздать «Птицу-тройку», которая, вдохновленная Богом, понесет волшебный экипаж через необъятные просторы России. Но в «Петербургских повестях» пока что определяются только вектор, направление «движения» и его смысл в перспективе отмеченного гоголевского замысла, контуры которого просматриваются более четко в проекте трехчастной поэмы «Мертвые души».
А сейчас посмотрим, как это «движение» начиналось и как оно логически завершилось в пределах цикла. Итак, «коляска» у Гоголя - это не проходной образ, а существенно важный образный элемент, необходимый для понимания концепции всего цикла «Петербургские повести». И здесь важен не только «образ» коляски, но и ее маршрут. Но сначала скажем о формировании именно «образа». Заметим при этом, что «коляска» строго привязана к маршруту, обозначенному исследователями как «след птицы тройки» [Крюков, 2008].
Итак, начало гоголевских рассуждений связано с идеей «движения». Он «критикует» без дела «стоящую» коляску в одноименной повести. Читателю показана в фи- нале рассказа находящаяся в каретном сарае ничем не примечательная коляска, в которой прячется от незваных гостей помещик Чертокуцкий и в которой они его неожиданно обнаруживают. Рассказ по форме представляет просто забавную анекдотическую историю, которую исследователи по-разному пытались расшифровать. Мы обратим внимание только на связанный с коляской мотив «движения». Парадокс заключается в том, что автор рассказа превратил средство передвижения и его спрятавшегося и необыкновенным образом согнувшегося владельца в неподвижную карикатурную массу. Элементарный здравый смысл заставляет обратить внимание на владельца экипажа, а сам экипаж так и остается в сарае, где стоял раньше. Но цель Гоголя, как это следует из дальнейшего повествования, заставить «объект» выполнять присущую ему функцию. А для этого нужен тот, кто придаст коляске органичное для нее «движение». Для такой роли, разумеется, подходит только энергичный человек, сформировавшийся «пассионарий», для которого «движение» - жизнь.
В цикле он предстает в образе Поприщи-на («Записки сумасшедшего»), который в своем воображении создал символическую «Птицу-тройку» - обобщенный «образ» движения. В данной ситуации остается определить, куда направлено движение символической коляски. Сомнений здесь не возникает: конечно, в Рим, поскольку автор этот конечный пункт и обозначил, озаглавив последнюю повесть цикла соответственно: «Рим». Итак, фиксируются три смысловые «точки» на карте движения гоголевской художественной идеи: «коляска», «возница», «Рим».
Эта статичная «триада» обрастает дополнительными смыслами, формирующими целостную проблемно-поэтическую структуру гоголевского художественного мира. Не следует забывать о том, что рассматривается «Петербургский цикл». Сразу же в сознании читателя возникает объективная соотнесенность: «Петербург - Рим». Гоголь жестко их противопоставляет, подготавливая тему «движения» и даже «бегства» из России на Запад, чтобы затем вернуться назад и продолжить движение в восточном направлении.
Но автор цикла к проблеме сопоставления, точнее - противопоставления Рима и
Петербурга, подходит достаточно осторожно, учитывая различные привходящие обстоятельства. «Невский проспект», например, открывается похвалой главной улице имперской столицы: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет всё». Но в гоголевской интерпретации Петербург имеет не только исторически значимое «лицо», но и оборотную сторону столичного фасада, которую можно обозначить словом «личина». Гоголь и указывает на нее в финале повести: «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект...». Кажется, что «сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».
В системе цикла Гоголь противопоставляет Петербургу «вечный город» Рим. Петербург утратил изначально присущее ему лицо «Петровского града», о котором А. С. Пушкин сказал: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». В эту статичную систему противопоставления двух столиц Гоголь включил мотив «движения», в процессе которого Рим займет свое историческое место по отношении к России в целом, и не как антипод, а как своеобразный союзник.
Расширяя и углубляя смысл «художественных сцеплений» в структуре петербургского цикла, Гоголь связал понятие «движения» с «пассионарной» личностью героя «Записок сумасшедшего», который, по плану автора, направился из ненавистного ему Петербурга в Европу, очевидно, в сторону Рима. Авторская «подсказка» состоит в том, что повесть «Рим» логично следовала за «Записками сумасшедшего» и завершала весь цикл. Но Гоголь прервал последовательное развитие этого сюжета, ибо в таком варианте растушевались бы целевая установка автора и самый главный смысл «движения». Поэтому автор оставил в запасе образ Рима для того, чтобы включить его в «маршрутную карту» Поприщина на более позднем этапе описания движения его в Европу и обратно.
В гоголевском варианте «движение» героя в Европу начинается из Петербурга, где ему, кроме прочих неприятностей, «угрожает» насильственный переход в магометанскую веру, который в глобальном плане намерен осуществить какой-то безумный житель Петербурга. Поэтому герой повести пытается найти смысл своей собственной жизни именно в Европе, как бы выполняя при этом предначертания Петра Великого, который, по версии А. С. Пушкина, провозгласил: «Судьбою здесь нам суждено в Европу прорубить окно...».
Отбросив какие-либо размышления и аргументы, гоголевский герой «отправился» в Европу «традиционным» маршрутом в коляске (в «экипаже», в котором его повезли в «дом сумасшедших»). В сознании Попри-щина, конечно, маячил вопрос: до каких пределов домчит его очень быстро летящая коляска? Ответ, который вертелся и в голове читателя, был один: до берегов Атлантического океана, где гипотетически должен был «опустить копыта» «Петровский конь» из поэмы Пушкина «Медный всадник». Последним пунктом этого движения была Испания, куда и «прибыл» Поприщин, обозрев всю «безликую», ничем не примечательную Европу. Об этом в дневнике героя и идет речь. Но обратим внимание на то, что Рим в этом контексте не фигурирует. Он появится позже, а сейчас перед взором читателя мелькают Германия, Англия, Франция, Испания. Что в них знаменательного и почему герою захотелось обратно в Россию?
Перед Гоголем как россиянином возникает глобальная проблема «Запад - Восток», которая выходит за границы локального сюжета о безумном «протестанте» Попри-щине, мелком чиновнике из какого-то Петербургского департамента. В гоголевской трактовке «Запад» духовно бесплоден. Поэтому доминантной фигурой в Германии оказывается «хромой бочар», делающий «плохую луну». Англия и Франция в совокупности - типичная европейская «провинция», пропитанная обывательским мироот-ношением, а Испания - это место наказания лично самого Поприщина, откуда надо немедленно бежать.
И вот в этот ситуативный план автор встраивает «коляску», обретающую мифологизированный характер в воображении героя, которого она уносит в родные края, в Россию, ибо «Русь» живет и пульсирует в его сердце так же, как и в сердце автора, создателя этого образа. Безумие не дискредитирует образ, так как по христианским понятиям, отраженным еще в «Послании к Коринфянам» апостола Павла, безумие человека в безумном мире трактуется как достоинство перед самим Богом.
Теперь обратим внимание на обратный маршрут героя этого странного «путешест- вия». Маршрут его перемещения имеет знаковый характер. В Россию герой отправляется другим, южным путем, через Средиземное море. Из Испании такой путь в Россию наиболее рациональный и в чисто бытовом плане. Кроме того, в данном случае играют роль чисто прагматические соображения, фиксируемые на уровне сознания путешествующего субъекта. Он «бежал» из Петербурга и у него была дополнительная цель – воссесть на королевский трон в испанской столице.
Движение из Петербурга в Мадрид (который не упоминается в повести) представляет собой государственный маршрут международного значения. Сейчас же По-прищин устремлен в Россию, к родной «матушке». Его «путешествие» представляет собой уже частную поездку ничем не примечательного лица. Но, сменив имидж, По-прищин следует по маршруту, который в своем знаковом смысле связан с глобальной авторской идеей «Запад – Восток». В субъектном плане эта идея «спрятана» Гоголем в придуманном им размышлении Поприщина о том, что если написать «Испания» и «Китай», то читается это как одно и то же. Герой повести придумывает обратный маршрут, который имеет такого рода объединяющий смысл. Ситуация возникает здесь в сознании Поприщина следующая: он движется на Восток. В этой позиции оказывается: «справа – море», «слева – Италия». Италия для читателя – уже важный знак. Он скрывает (или, наоборот, обнаруживает) нигде в контексте не названный пока город «Рим».
Если посмотреть на географическую карту, можно увидеть следующий знаменательный пункт: магометанскую Турцию, которая в связи с угрожающим герою «петербургским магометанством» должна произвести на него потрясающее впечатление. Логично, что о Турции в дневнике Поприщина ничего не говорится. Но рядом с «неназванным» Римом объективно должен быть не «названный» Поприщиным Константинополь. Лукавство Гоголя-художника состоит в том, что он, «играя» на ситуации безумия героя, составляет своеобразный гипотетический «метатекст». Дело в том, что Константинополь – это в религиозно-историческом плане «Второй Рим». Если так рассуждать, то должен появиться и «Третий Рим». Он и появится, но в нужном месте и в нужное время в соответствующем поэтическом контексте. Далее, за проливами Босфор и Дарданеллы, которые, разумеется, не названы, открывается Черное море и южные области России, где героя ждет «родимая матушка». На карте маршрута Поприщина возникает Украина. Для героя Украина – «дом», для автора – знаменательное место, Запорожье, о котором он подробно рассказывает в повести «Тарас Бульба».
В авторском сознании названная территория и есть та самая Русь, которая радостью и болью наполняет сердце писателя. В финале повести «Тарас Бульба» Гоголь с пафосом возглашает: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!». А в статье «Взгляд на составление Малороссии» (1832 г.), которая затем попала в сборник «Арабески» (1835 г.), Гоголь утверждал, что «истинная» христианская вера была спасена от «иноверцев» именно запорожскими казаками. В связи с такого рода ситуацией обострилась проблема истинного, «православного христианства», которая была связана с маршрутом «движения» По-прищина. В системе упомянутых текстов такие пункты, как Рим и Константинополь обретают особый «знаковый» смысл. Этот смысл имеет сакральный оттенок, поскольку связан с фундаментальной идеей «Москва – Третий Рим». Совершенно логично представить такого рода «движение» в форме устойчивой «триады»: Рим – Константинополь – Москва.
В конечном счете Поприщин попадает в Московское «царство», сначала обозначенное Гоголем как «юг» России. Важно подчеркнуть, что «юг России» это для Гоголя – «Московское царство», в котором и завершается путь главного героя, следующего на Восток из «Римского царства». Теперь в интерпретации Гоголя все встало на свои места: «Москва» явилась читателю как «Третий Рим». Гоголь поставил здесь своеобразную «точку», ибо было известно, что «Четвертому Риму» не бывать.
Автор поднял читателя на новый уровень повествования, показав перспективу развития христианской идеи в ее историческом движении на Восток. Гоголевский Попри-щин уже прояснил диапазон и значение такого движения, бросив в сторону читателя несколько странную фразу по поводу того, что «Испания» и «Китай» – это «одно и то же». Но в плане мистического маршрута героя такое утверждение имеет перспективный исторический смысл. Известно, что сибирские «областники» называли Тихий океан «Средиземным морем будущего». Гоголь уже до них соединил «Средиземное море» настоящее со «Средиземным морем» будущего. Однако «циклы», в жанровом пространстве которых творил Гоголь, стесняли его творческие возможности и претензии. Идея «Запад – Восток» требовала для своего воплощения какие-то другие жанровые формы. И Гоголь в итоге создает «поэму».
«Мертвые души» и были такой поэмой, в границах которой Гоголь реализовал свой грандиозный замысел, выдвинув на первый план, говоря современным научным языком, универсальный концепт «движения». Мысль героя о «Птице-тройке» стала авторской и воплотилась в своеобразной «энциклопедии русской жизни», в поэме «Мертвые души», хочется сказать в «Божественной комедии», как ее трактовали многие исследователи в прошлом и настоящем.
Но в связи с маршрутом «Птицы-тройки» возникает еще одна проблема, на которой уместно остановиться. Это проблема «исторической памяти» автора. Как бы ни осложнялся маршрут Поприщина благодаря его европейским путям и перепутьям, он совершенно точно предполагает движение «из Петербурга в Москву». Можно, конечно, возразить: Москва не упоминается в контексте повествования о судьбе «путешественника» Поприщина. Но ведь и Рим, и Константинополь тоже не упоминаются, но они возникают в контексте, в «лабиринте художественных сцеплений» и играют решающую роль в формировании авторской проблемно-поэтической концепции всего цикла повестей.
Итак, автор сознательно ведет читателя по маршруту «Петербург–Москва». Важность религиозного аспекта этой темы мы уже подчеркнули. Но не менее важно учесть еще одно обстоятельство: ведь тема путешествия между городами специально акцентирована в отдельных произведениях А. Н. Радищева и его союзника и вместе с тем оппонента А. С. Пушкина. Гоголь это обстоятельство учитывает при составлении «дорожной карты» для своего персонажа, движение которого он приостанавливает в пределах европейской России, как уже сказано, где-то в районе Черного моря.
Гоголь «не собирается» возвращать По-прищина в северную столицу. Здесь уместно вспомнить предупреждение А.С. Пушкина. В очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» он свидетельствует: «Многое переменилось со времен Радищева: ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, ожидающий меня; голова моя заранее кружится…» [Пушкин, 1978. С. 187]. Еще более выразительно следующее описание: «Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь… Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый» [Там же. С.184 ].
Все эти «прелести» не вошли в описание маршрута путешествия Поприщина. Они остались в сознании автора, который своей волей «усадил» героя на летящую «Тройку» и направил ее далее, на восток от «Третьего Рима». Но автор не только сменил «коляску» на «Птицу-тройку», но и заменил «седока». Поприщин исчез, сначала утратив обретенную им волшебную «Тройку», а потом и ориентир движения. Гоголь направил «Тройку» на Восток от «Третьего Рима» и «забыл» о Поприщине, который в процессе «движения» утратил роль нарратора-прота-гониста.
Экипаж управляется теперь просто «русским человеком» и продолжает путь, открытый и утверждаемый христианской религиозной мыслью – от Арамейского царства к Московскому царству. Сам же Гоголь смотрит теперь дальше, на Восток, куда устремлена «Птица-тройка», «вдохновляемая Богом». Но это уже следующий этап «движения» религиозной и государственной идеи писателя, которая потребовала для своего воплощения особой жанровой формы и логично привела автора к созданию грандиозной поэмы «Мертвые души», в пространство которой и «перелетела», по воле писателя, сакральная «Птица-тройка», символ России и своеобразная «реклама» ее духовного величия.
В свое время мы об этом уже писали [Одиноков, 2010]. Сейчас хотелось бы под- черкнуть значение духовной «субстанции» в формировании художественного мира поэмы о «мертвых душах». Названная субстанция имеет личностный аспект и нравственно-религиозный, учительно-догматический.
Свое личное участие в решении проблемы «живых» и «мертвых» душ Гоголь попытался определить в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Писатель признается: «Дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни » [Гоголь, 1950. С. 138]. В письме к П. А. Плетневу от 24 августа 1847 г. он заметил: «Редко кто мог понять, что мне нужно было также оставить поприще литературное, заняться душой и внутренней своей жизнью для того, чтобы потом возвратиться к литературе создавшимся человеком» [Переписка Н. В. Гоголя, 1988. С. 290].
Такая нравственно-философская тенденция реализуется особенно четко в трехчастном плане поэмы «Мертвые души». Характерно в этом отношении обращение автора к А. С. Данилевскому (письмо от 9 мая 1842 г.): «Через неделю после этого письма ты получишь отпечатанные “Мертвые души”, преддверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит наконец загадку моего существования» [Там же. С. 67]. Гоголь выстроил на этой основе поистине «Божественную поэму», которую исследователи пытались сравнить с «Божественной комедией» Данте, что не правомерно, поскольку католицизм для православного христианина Гоголя в любых формах был не приемлем. И когда ему не удалось духовно «возродить» Чичикова, он в соответствии с конфессиональной ориентацией обратился к «Божественной Литургии», три части которой точно соотносились с духовно-религиозным замыслом поэмы.
«Размышления о Божественной Литургии» Гоголя были итогом развития размышлений о судьбе Родины и Человека. «Птица-тройка», начавшая движение в творческом воображении писателя в Испании («Записки сумасшедшего»), открыла новый этап «движения» в 11-й главе первого тома «Мертвых душ». Она сменила «руководство» и «след» ее исчез где-то, надо полагать, у границ Китая, о чем «намекнул» в своих записках прежний «хозяин» и вдохновитель «Трой- ки» – Поприщин. В комплексе рассмотренных произведений Гоголя «след Птицы-тройки» гипотетически прослеживается как единая линия от Атлантического до Тихого океана, если учесть «подсказку» Поприщина в его рассуждениях на геополитические темы. Но это был уже не «След». Это был «Путь», мучительный путь души самого Гоголя, совпадавший с историческим «движением Руси», которую он при всех обстоятельствах носил в «сердце своем».
Религиозно-нравственная основа гоголевских художественных текстов соотносилась с некоторыми характерными поэтическими тенденциями древнерусской литературы. Са-крализованный характер концепта «движения» у Гоголя выводит исследователя гоголевского творчества на популярный жанр древнерусской литературы, жанр «путешествий», которые в сюжетном плане связаны с «путешествиями» икон, странствиями иконописных Ликов.
Исследователь Л. И. Журова рассматривает в этом плане сюжет «странствий» иконописного Лика св. Богородицы. Она подчеркивает типологически устойчивую схему движения икон: «В инварианте пути: Святая земля – Святая Русь – укладываются практически все хождения богородичных икон» [2013. С. 25]. Поразительно то, что диапазон и вектор «движения» в произведениях Гоголя совпадают с сакральным путем иконы. Мы уже характеризовали главнейший участок движения «Птицы-тройки», который связан с «путем Христа» из Святой Земли в Святую Русь, в Московское царство, ставшее «Третьим Римом», который и завершает этот сакральный путь, ибо, как известно, «Четвертому – не быти».
Дальнейшее движение «сакральной тройки» Гоголь определяет сам, исходя из мысли о провиденциальной роли России в процессе христианизации мира. В «Мертвых душах» уже ясно сказано, что «Тройке» уступают место и дают дорогу «другие народы и государства». Окрашенный философско-религиозными тонами художественный мир Гоголя обосновывал универсальную, фундаментальную базу национальной идеи, используя форму такого популярного жанра, как жанр «путешествий», предполагающий в принципе описание реальных объектов, фактов и событий. Гоголь, как уже сказано, подчинил описательный план и всю эмпирическую фактографию «высшей идее», носившей философско-религиозный характер.
Главным режиссером, который объединял и выстраивал весь повествовательный материал, была «мысль», через призму которой автор открывал читателю смысл всего того, что он наблюдал и что происходило в окружающем его изменяющемся мире. По пути Гоголя в этом плане пошли и другие русские классики. Л. П. Якимова недавно опубликовала очень перспективную в свете предлагаемой темы статью о путевых очерках И. А. Гончарова «Под ферулой риторики»: семиотический аспект жанра путешествия в очерковой книге И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» [Якимова, 2013. С. 217– 224]. Гончаров, по сути, закрепил мысль о том, что события в «путешествии» имеют определенный знаковый «смысл», или даже «сверхсмысл». При этом писатель в своем творческом процессе, как показала исследовательница, шел от эмпирически освоенного материала к семиотической структуре текста, создавая его «под ферулой риторики».
Гоголевская же фактография «появляется» по мере необходимости, чтобы встроиться в намечаемую феноменологическую структуру повествования. Читатель же, конечно, воспринимает факты в системе авторского дискурса и через него постигает метафизический смысл реально представленной картины жизни. Полезно вспомнить при этом сочинение А. П. Чехова в жанре «путешествия» – «Остров Сахалин», вкус и запах которого ощущались, по свидетельству самого автора, во всех последующих его сочинениях, которые все были «просахали-нины».
Пророческая функция творчества Гоголя в этом плане несомненна. Как мы старались показать, концептуальная целостность его творчества состояла в том, что тексты писателя были, по сути, разработкой концепта «движения», точнее – «странствия». Странность же самого «странника» состояла в том, что он душой всегда пребывал в преде- лах Родины, поскольку Русь всегда была в его «сердце».
А началось «движение» фактически с «откровения» А. С. Пушкина, с его хорошо известных русскому человеку слов: «С утра садимся мы в телегу». А к этому эпиграфическому выражению правомерно добавить аналогичное эпиграфичное замечание Пушкина: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось…». В этих маркированных Пушкиным «границах», в этом проблемном диапазоне и оказался Гоголь – художник, поклонник Пушкина и классический «странник», у которого «в сердце Русь».
SPECIFICS OF IMAGERY AND ARTISTIC FUNCTION
Список литературы Мотив "движения" в поэтике Н. В. Гоголя: образная специфика и художественная функция
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. М., 1950. Т. 6.
- Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959.
- Журова Л. И. Путь и движение в сюжете сказаний об иконе (к вопросу о христианской символике воды и воздуха) // Сибирский филологический журнал. 2013, № 3. С. 25-30.
- Золотусский И. Гоголь. М., 1979. Крюков В. М. След птицы тройки. М., 2008.
- Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989.
- Одиноков В. Г. Поэтический мир Н. В. Гоголя в пространстве русской культуры XIX в. Новосибирск, 2010.
- Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 7.
- Якимова Л. П. «Под ферулой риторики»: семиотический аспект жанра путешествия в очерковой книге И. А. Гончарова «Фрегат "Паллада"» // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 2. С. 217-224.