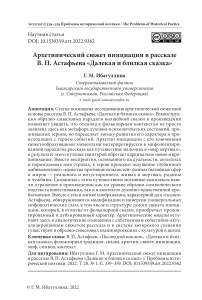Мотив инициации в рассказе В. П. Астафьева «Далекая и близкая сказка»
Автор: Ибатуллина Гузель Мртазовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию архетипической сюжетной основы рассказа В. П. Астафьева «Далекая и близкая сказка». Реконструкция образно-смысловых парадигм волшебной сказки в произведении позволяет увидеть, что отсылка к фольклорным контекстам не просто заявлена здесь как метафора духовно-психологических состояний, проживаемых героем, но определяет логику развития его характера и происходящих с героем событий. Архетип инициации с его ключевыми сюжетообразующими элементами интерпретируется в мифологизированной парадигме рассказа как путешествие мальчика в «мир мертвых», в результате этого путешествия герой обретает кардинально новое миропонимание. Вместо восприятия, основанного на дуальности, антитезах и порождаемых ими страхах, к герою приходит ощущение глубинного амбивалентного «единства противоположностей» разных бытийных сфер и миров - реального и потустороннего, живых и мертвых, родины и чужбины. Связанные с этим путешествием мотивные комплексы нашли отражение в произведении как на уровне образно-символического подтекста повествования, так и в контексте духовно-нравственной проблематики. Вместе с тем в логике изображения, характерной для «сказки» Астафьева, обнаруживаются модификации и инверсии универсальных мифопоэтических схем, в том числе в структуре самого сюжета инициации, который, в отличие от фольклорной сказки, приобретает пролонгированный и дублированный характер. Архетипические модели вступают здесь в диалогические отношения с собственным событийно-актуализированным сюжетом рассказа и в системе авторского сознания существуют в образно-смысловых взаимопроекциях с культурой в целом.
В. п. астафьев, последний поклон, далекая и близкая сказка, фольклорная традиция, сказка, архетип, сюжет, инициация, миф, символ, контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/147236205
IDR: 147236205 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.9362
Текст научной статьи Мотив инициации в рассказе В. П. Астафьева «Далекая и близкая сказка»
Р оль фольклорно-мифологических начал в повести В. П. Астафьева «Последний поклон» — тема, уже имеющая свою литературоведческую традицию (см., напр.: [Букаты], [Шевцова], [Калимуллин], [Макрушина], [Ключникова]). Отметим вместе с тем, что работы данного ряда не столь многочисленны, как можно было бы ожидать: внимание астафьеведов сосредоточено в основном на особенностях пространственновременной организации произведения, его жанровой поэтики или на проблемах духовно-нравственного и социальноисторического содержания книги. Открывающий «Последний поклон» рассказ «Далекая и близкая сказка» также нечасто привлекал в этом плане внимание литературоведов (см.: [Неверович], [Дусалина]), хотя, в силу непосредственных прямых отсылок к фольклорным контекстам, заявленным уже в заголовке произведения, исследования такого рода кажутся вполне ожидаемыми. Возможно, именно очевидная, нарративно проявленная фольклорная ориентация рассказа вуалирует более глубокие мифологизированные уровни повествования, остающиеся вне поля зрения астафьеведов, в результате чего «сказка» воспринимается здесь скорее как метафора духовно-психологических состояний, проживаемых героем, нежели художественно конструктивная форма организации текста.
В действительности, на наш взгляд, знаково отмеченная самим автором параллель с волшебной сказкой наделяется в рассказе сюжетообразующими функциями и становится одним из ключевых моментов, определяющих пути интерпретации изображенных здесь событий. По сути, фраза «далекая и близкая сказка» приобретает смысл реализованной метафоры, отражающей объективно-фактическую, а не условно-иносказательную логику пережитой героем ситуации — разумеется, в рамках данной, воссоздаваемой в произведении художественной реальности.
Сюжет волшебной сказки, как известно, строится на основе смысловой схемы ритуалов инициации (см. об этом: [Пропп: 112–437], [Тюпа: 16–23]) и соответственно имеет аналогичную структуру, специфическую символику, определенную цель, состоящую в итоговом преображении инициируемого. Именно подобное глубинное преображение испытывает герой Астафьева: психологические и духовнонравственные метаморфозы, переживаемые им, становятся, как и в обрядах инициации, переломным моментом на пути взросления и личностного становления1. В рассказе отчетливо выявляются наиболее значимые для сказочного сюжета инициации образы, мотивы, символические детали и структурно-логические элементы.
Одна из самых очевидных отсылок к волшебной сказке — метафора «избушка на курьих ножках», которую мы встречаем в изображении жилища Васи-поляка:
«Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, в морхлом месте, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ…»2.
Безусловно, перед нами здесь не просто условно-иносказательное художественное сравнение, а мифологема, укорененная в фольклорной и культурологической традиции и наделенная в общем контексте произведения миромоделирующими функциями. Семантика этого образа, как у Астафьева, так и в сказке, парадоксально амбивалентна: с одной стороны, она связана с хронотопом границы , междумирья, куда попадает сказочный герой, отправившись в путь из отчего дома, с другой — с символикой сакрального мирового центра 3, объединяющего разные измерения реальности. Характерно также, что избушка Васи-поляка — не просто жилище, но « караулка », что практически синонимично одному из определений В. Я. Проппа: «Эта избушка — сторожевая застава», — пишет он о жилище Бабы-яги [Пропп: 153].
«Избушка на курьих ножках — в славянской мифологии место перехода из земного мира в потусторонний мир» [Ладыгин: 154]. Мальчик, герой рассказа, в символическом плане повествования действительно перемещается из сферы реально-повседневной в особое иномирное пространство, где, подобно сказочному персонажу, переживает ряд испытаний, встречается со сказочными чудесами и с совершенно иной, внеобыденной логикой восприятия мира. Следует оговорить, что в повествовательной структуре рассказа Астафьева реф-лекси й но4-диалогически (почему именно рефлекси й но, мы объясняем в примечании) пересекаются два плана изображения — реалистический, ориентированный на достоверность и фактографичность описаний, и фольклорно-мифологический, с установкой на архетипические и символические формы отражения действительности. Возможность такой интеграции в произведении, остающемся в рамках «реалистической литературы», мотивирована в рассказе спецификой сознания героя, которому доступно особое сакрализованное восприятие мира. Мальчик наделен не просто поэтическим воображением, но глубинно архетипическим мышлением, благодаря чему способен духовно переместиться в сказочное иномирье:
«Найдешь цветок папоротника — невидимым станешь и можешь… выкрасть у Кащея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже вернуться на кладбище и оживить свою родную мать и матерей всех осиротелых ре бят» ( Астаф ьев : 14).
Герой оказывается в «другом» пространстве-времени, с другими формами экзистенциального самоощущения, с другими нормами отношений и взаимодействий между людьми, когда малознакомый и практически изначально «чужой» (см. об этом: [Неверович: 33–35]) ему человек — Вася-поляк — в одно мгновение становится для него духовно конгениальным, по сути самым близким — наряду с бабушкой. Мотив символического перемещения мальчика обнаруживает явственные параллели с сюжетной ситуацией ухода героя, характерной как для волшебной сказки, так и для инициационных мифов; в типологии В. И. Тюпы перед нами фаза ритуального обособления — первый этап обряда инициации. Характерно при этом, что трансформируется в изображении Астафьева — и это согласуется со сказочной логикой — не только пространство (обычный лес за околицей в сказке превращается в хто-ническое запределье), но и время: события в рассказе разворачиваются на границе дня и ночи — это время, олицетворяющее особое сакральное состояние мира, уводящее человека за пределы бытового сознания:
«За Енисеем, за караульным быком, затемнело. <…> Но вот наползла с двух сторон — из-за леса и из-за реки — плотная темнота. Зарю притворило до утра, будто светящееся окно ставнями. Сделалось темно, тихо и одиноко» ( Астафьев : 10).
Следующий этап сюжета инициации — этап испытаний и искушений — представлен в логике развития событий рассказа не менее отчетливо; хотя искушения как таковые даны здесь в редуцированной форме, в целом они оказываются инвариантом тех же самых испытаний. Здесь, заметим, логика астафьевского повествования усиливает в первую очередь инициационную логику сказки, а не мифа, так как сказка акцентирует именно мотивы испытаний, а искушения в чистом виде тут, в отличие, например, от житийных текстов, практически не представлены. Это объясняется, видимо, цельностью сказочного героя (вспомним, что характер в фольклоре равен поступку), лишенного внутренней потенциальной раздвоенности, а потому и неспособного «искушаться». У Астафьева момент искушения мальчик по-настоящему переживает лишь однажды, и это действительно только «момент»: когда он «уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, полететь до самых ворот и забренчать щеколдой так, что проснутся на селе все собаки» (Астафьев: 11). Бегство как искушение спонтанно проникает в сферу инстинктов героя на мгновение, в то время как испытание страхом и встречей с иной реальностью переживается им неоднократно:
«Я боялся громко дышать, втиснулся в зауголок завозни»; «я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня парализующего страха»; «сделалось еще страшней: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей <…> огороды, охваченные чертополохом, издали похожими на черные клубы дыма. Один я, один, а кругом жуть жуткая, а еще музыка — скрипка» ( Астафьев : 11).
Перед нами здесь не просто «привычные» детские страхи. «Любая встреча с неизвестным для тебя явлением, с сакральным, вызывает в нас страх перед сверхчеловечностью. <…> Бытие, не прошедшее через страх, не может открыть в себе новое и стать сакральным. Сама встреча с сакральным формирует ситуацию страха, но миф определяет уже содержание страха. <…> В мифе чувство страха перерастает в неописуемый навязчивый ужас от столкновения с совершено неопределимыми существами или ситуациями, от которых невозможно скрыться и на которые невозможно воздействовать» [Телегин: 12–13]. Мальчик действительно переживает тот экзистенциальный мистический ужас, который порождается столкновением с иномирьем, его атрибутами и обитателями. Неслучайно традиционная сказочная атрибутика пространства Бабы-яги, ее жилища явственно обозначена в картине окружающей его реальности: «много белых костей», «кладбище», «чертополох», «черные клубы дыма» прочитываются как проекции данного мотивного комплекса. «Согласно сказкам восточных и западных славян, Баба-яга является хозяйкой мира мертвых, живет в лесу в “избушке на курьих ножках”, пожирает людей; забор вокруг избы — из человеческих костей, на заборе черепа, вместо засова — человеческая нога, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами. В печи Б.-я. старается изжарить похищенных детей» [Иванов, Топоров: 149].
Примечательно, что в процитированном выше фрагменте в ряду откровенно устрашающих, традиционно инфернальных образов мальчик упоминает «увал с избушкой»: избушка, как и в сказке, оказывается «спереди» («Встань к лесу задом, ко мне передом», — говорит традиционно сказочный герой) и одновременно — между кладбищем и «жутким займищем за селом, где валяется много белых костей» ( Астафьев : 11). С точки зрения повседневной логики это упоминание выглядит несколько странным, даже парадоксальным: изба (= дом) должна бы «компенсировать» страх перед кладбищем, а не «резонировать» с ним, как это происходит с мальчиком. Однако в ситуации иномирья избушка рядом с костями «прочитывается» им как именно жилище Бабы-яги, а не как ветхий домишко, оказавшийся на отшибе, в стороне от деревни, — жилище Васи-поляка, о чем мальчик хорошо знает на ином, рациональном уровне восприятия.
Отметим, что сказочный герой не просто встречается в лесу с избушкой, он обязательно входит в нее: в соответствии с логикой сказки пройти мимо этой избы, несмотря на всю ее видимую недоброжелательность, для героя в принципе невозможно, сама мысль об этом не может появиться в его уме; даже если изначально, отправляясь в путь, он вовсе не ставил цель встретиться с Бабой-ягой, встреча эта для него неизбежна. Для героя Астафьева подобная ситуация также оказывается судьбоносной, хотя, в отличие от фольклорного персонажа, его появление в избушке обусловлено его осознанным выбором. Он входит в жилище Васи-поляка, обеспокоенный не собственной судьбой, как герой сказки, а судьбой хозяина избушки:
«Скрипки не было слышно, свет в Васиной избушке не горел. “Уж не умер ли Вася-то?” — подумал я и осторожно пробрался к караулке» ( Астафьев : 13).
Но сам факт, что мальчик не мог пройти мимо избы и должен был войти в нее, коррелирует с логикой сказочного сюжета.
Ассоциация героя Астафьева, соединяющего в своем сознании образы Бабы-яги и Васи-поляка, оказывается неслучайной и оправдывается затем духовно-психологической и мифосимволической логикой разворачивающихся событий; использованная мальчиком метафора «избушка на курьих ножках» также приобретает буквальный характер, реализуя в повествовании свой изначальный архетипический смысл. Вася-поляк действительно выполняет в «сказке» героя те же функции, что и Баба-яга, связанная «с обрядовой интерпретацией сказок о ней как о жрице в обряде посвящения подростков» [Иванов, Топоров: 149].
Сам образ Васи-поляка наделен целым рядом черт, обнаруживающих в нем художественную инкарнацию «волшебника из далекой сказки» ( Астафьев : 14). Имагологический колорит образа, аура «другого» порождает не только эффект его отчужденности от односельчан, но и инстинктивно-иррациональный страх у детворы:
«Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь» ( Астафьев : 9).
Мы не будем сейчас останавливаться на всех знаковых деталях образа Васи-поляка, отметим лишь такие характерные для хозяев иномирья черты, как хромота и слепота: он был «хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки» ( Астафьев : 9). У Бабы-яги «одна нога — костяная, она слепа (или у неё болят глаза)» [Иванов, Топоров: 149]. Характерно, что в кульминационный момент посвящения музыкой в избушке Васи-поляка его облик в восприятии мальчика приобретает настолько фантастический характер, что он «радовался, что не мог видеть Васиного лица, бледной ключицы , выступившей из-под рубахи, и правой ноги , кургузой , куцей , будто обкусанной щипцами , глаз, плотно, до боли затиснутых в черные ямки глазниц » ( Астафьев : 14); и «мертвая» нога Бабы-яги, и «мертвые» ее глаза в этом фрагменте откровенно узнаваемы, и даже «бледная ключица» в общем аллюзийном контексте воспринимается как обнажившаяся кость мертвого тела-скелета.
Гендерная инверсия образа у Астафьева не противоречит сути и облику фольклорного персонажа: как известно, Баба-яга нередко наделяется мужеподобными (или, по крайней мере, трансгендерными) чертами.
Значимо здесь и то, что Баба-яга связана в сказках в первую очередь с обрядами мужской инициации — охотничьего и воинского посвящения мальчиков-подростков и юношей; В. Я. Пропп объясняет женскую «маску» посвятителя в этих обрядах ритуальным травестизмом (см.: [Пропп: 199–202]).
Вася-поляк, надевая в символическом контексте повествования маску Бабы-яги, выполняет, как и сказочный первообраз, две ключевые роли в инициации, переживаемой героем рассказа, — это роль «жреца», проводника души, и роль сказочного помощника // дарителя. С одной стороны, с Васей и окружающим его пространством смерти связаны испытания мальчика, в том числе и «парализующий страх», но вместе с тем именно дар Васи-поляка — музыка — освобождает душу героя. Амбивалентность этой ситуации отражена в характерной детали: кульминация страхов становится одновременно и точкой символической смерти (третья фаза инициации), и точкой воскресения для мальчика (четвертая фаза):
«<…> Из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене. <…> Сделалось еще страшнее… Один я, один, кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозится она вовсе. Жалуется. И совсем ничего нет жуткого. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слушал никогда один-то, вот и…» ( Астафьев : 11).
Отметим попутно неслучайный характер возникшего в сознании героя сравнения «дурак-дурачок»: в общем ассоциативно-символическом контексте повествования оно прочитывается как аллюзийная отсылка к одному из самых известных образов русских народных сказок — образу Иванушки-дурачка, также переживающего в событиях своей судьбы инициацию — преображение.
В отличие от фольклорной Бабы-яги, амбивалентность инициирующих функций Васи-поляка в рассказе Астафьева проявлена не только в сюжетно-смысловом плане, но и на фабульно-событийном уровне. Так, В. Я. Пропп выделял три типа яги, которые по-разному проявляют себя в сюжетах разных сказок: яга — дарительница, яга — похитительница детей и яга — воительница, — при этом, как правило, эти функции не совмещаются в рамках одной сказки [Пропп: 147]. В «сказке» Астафьева роль Васи-поляка в восприятии мальчика с развитием действия меняется: сначала он видится им как потенциальный «похититель», представляющий опасность для детей, по мере же приближения к завершению инициации — как «даритель», несущий откровение и глубинное знание о мире. Трансформация фольклорного первообраза обозначена и рядом некоторых аллюзийных деталей, проявленных в контекстах изображения Васи-поляка, как, например, в ситуациях, связанных с мотивным комплексом печи, — одного из традиционных атрибутов избушки Бабы-яги.
Характерно, что печь — первое, что видит мальчик, заглянув в избушку через окно; затем она становится, по сути, репрезентантом происходящих в душе героя «магических» событий. Само получение «дара» от Васи-поляка и посвящение музыкой начинается с ритуального обращения к образу печи («Подбрось дров в печку» ( Астафьев : 13), — говорит Вася после просьбы мальчика «сыграть еще»). Ситуация здесь вновь раздваивается: с одной стороны, перед нами вполне традиционный бытовой жест, с другой — инверсия сказочного мотива, связанного с ягой — «похитительницей детей», жаждущей «изжарить их в печи». Перемены, происходящие в душе героя, слушающего музыку Васи-поляка, параллельно метафорически отображаются в образных описаниях печи, огонь которой воспринимается уже не просто как источник тепла, но как космоургическая стихия, энергия которой коррелирует с энергиями музыки:
«Разгорелись дрова подсеченной сухостоины — сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом, вскипевшей смолой на потолке. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь, весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры» ( Астафьев : 14).
Когда утихла музыка, одновременно потухла и печка, словно бы выполнив свою ритуальную миссию. Отметим, что в процитированном эпизоде аллюзийно прочитывается и мотив летящей ступы Бабы-яги, двойником которой становится здесь «разогнавшаяся печка», выстреливающая «на ходу… искры» ( Астафьев : 14). Более того, в изображении Астафьева избушка // печь // ступа оказываются своеобразными мифо-логемными инвариантами самой Бабы-яги; не случайно фигура Васи-поляка практически растворяется, сливаясь с очертаниями избы:
«Тень музыканта, сломанная у поясницы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной, будто отражение в воде, потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем, и тогда там обозначался живой музыкант» ( Астафьев : 14).
Вернемся к логике сюжета инициации в рассказе; третья его стадия — встреча со смертью — требует в контексте произведения дополнительного комментария. В изображении Астафьева эта фаза приобретает пролонгированный характер и превращается для героя, по сути, в многоэтапное путешествие в царство мертвых: образы и мотивы, связанные с этой темой, становятся ключевыми для сознания мальчика и сквозными для всего повествования в целом. Разумеется, подобная сюжетная логика также отчетливо коррелирует с инициационной логикой волшебной сказки: «Этот обряд настолько тесно связан с представлениями о смерти, что одно без другого не может быть рассмотрено», — отмечает В. Я. Пропп [Пропп: 148].
Эпизоды, изображающие перелом в восприятии реальности героем, буквально насыщены знаками перехода и пребывания в мире мертвых, начиная с самых первых «трансовых» видений, рождающихся под воздействием музыки Васи-поляка:
«Видится почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: “Какая деревня-а-а?” — Зачем? Куда он плывет? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут медленно, дремотно. И еще видится толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, деревенский люд по всему берегу, бабушка, на голове волосья рвущая» ( Астафьев : 11).
Ощущение ирреальности здесь порождается парадоксальными неподвижно-движущимися «в никуда» образами — реки, плота, обоза, людей, коней, собак… В общем мифологизированном контексте повествования эти картины прочитываются как символическое перемещение героя в хтонические сферы, в пространственно-временные локусы, связанные с царством смерти. Плот с огоньком и обоз, «дремотно» движущиеся по реке «куда-то», приобретают архетипические смысловые коннотации и воспринимаются аллюзийной отсылкой к традиционным мифологемам, описывающим путь в загробный мир.
В соответствии с данной логикой далее возникают образы, уже непосредственно, а не аллюзийно констатирующие встречу героя с миром мертвых; ранее, как мы отмечали, знаки присутствия этого мира также неоднократно упоминались в повествовании: кладбище, «белые кресты», «белые кости», «задавившийся» на «жутком займище» человек, который, как призрак, вспоминается-мерещится мальчику, — однако эти образы были пока дистанцированы от героя, отделены пространством и обозначенными в нем граничными маркерами. Теперь душа мальчика напрямую соприкасается с реалиями и обитателями царства смерти. Дважды он видит свою утопленницу-мать: лежащей на берегу как «мокрое что-то, замытое тиной» (Астафьев: 11), а затем — прикладывающей к его лбу «холодную руку с синими ногтями» (Там же). Всплывает в сознании мальчика и собственное «околосмертье» во время тяжелой, долгой болезни, и ряд редуцированных знаков присутствия смерти в мире живых: глухота брата («умерший» слух), «умирающая» // «сохнущая» рука «беленькой, смешливой» девочки, — и далее скрывается эта череда видений вместе с «обозом» «в студеных торосах, в морозном тумане. <…> Одиноко, как-то пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами» (Астафьев: 12). Топос мертвого мира в этом пейзаже достигает своей художественной кульминации, однако музыка Васи-поляка, открыв мальчику внутреннее единство разных сфер мироздания, в том числе мира живых и мертвых, возвращает его, как и героя сказки, в пространство жизни, в буквальном смысле «бьющей ключом» (здесь перед нами вновь эффект реализованной метафоры, эксплицитно развернутой в повествовании):
«…снова забилась живая жилка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, грозный уже поток хлещет из скалы <…> Вот-вот <…> в небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и не залить уже будет этот огонь даже Енисеем…» ( Астафьев : 12).
Ключ за Васиной избушкой становится здесь олицетворением сказочной живой воды, способной воскрешать, преображать, возвращать в реальность (заметим, что символика этого образа многовекторна и данной интерпретацией не исчерпывается, однако остальные семантические инварианты мы оставляем пока в стороне). В мифологизированной образно-смысловой парадигме повествования ключ с водами жизни оказывается в отношениях оппозиции с мотивным комплексом, связанным с Енисеем, поскольку Енисей в анализируемых эпизодах символически воспринимается как архетипическая проекция Стикса // Леты и одновременно как источник мертвых вод, подобных сказочной мертвой воде. Неслучайны, видимо, и контекстуальные ассоциации, порождающие звукосемантические параллели между словообразами Енисей — Елисей — Елисейские поля — Элизиум. Енисей в рассказе Астафьева, по сути, предстает как путь, ведущий в загробный мир, то есть в Елисейские поля. Взаимоотражения мифологем, берущих начало в русском фольклоре и европейской традиции, в контексте «Сказки» Астафьева вполне закономерны, так как подобный диалог культур проявлен в произведении не только на символических его уровнях, но и в конкретно-фабульном плане — через образ инородца-европейца Васи-поляка.
Логика астафьевского изображения свидетельствует о том, что в результате пережитых событий меняется не только сознание мальчика, меняется кардинально окружающая его действительность, хотя, на первый взгляд, «все на месте », «мир не сгорел, ничего не обрушилось».
«Луна со звездою на месте. Село, уже без огней, на месте, кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, объятая отгорающими черемухами и тихой струной скрипки» (Астафьев: 12), — повторяющаяся здесь фраза «на месте» семантически раздваивается, приобретая разный смыcл во фразеологеме «все на месте» и в следующих затем предложениях: в первом случае она констатирует, что мир остался как будто бы прежним, во втором — утверждает гармонию, упорядоченность, обустроенность мироздания, единство всех его сфер: астральнонебесных («луна со звездою»), земных («село») и хтониче-ских («кладбище в вечном молчании»).
Если ранее кладбище и все, что связано с миром мертвых, пугало мальчика, то теперь, после инициационного путешествия в царство смерти и следующей далее повторной встречи с музыкой уже в избе Васи-поляка, он чувствует не страх, а покой, умиротворенность, чувство родства всех со всеми, в том числе — живых с мертвыми:
«Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. <…> В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок — ничего, ничего дурного в нем не умещалось» ( Астафьев : 15).
Кладбище оказывается не пространством «белых костей», а местом встречи с матерью и одновременно со всем сущим:
«Опустившись на землю, я припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо на земле и в земле. Маленькая рябина, посаженная мной и бабушкой, нароняла остроперых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил березы распустили нити с желтым листом до самой земли» ( Астафьев : 16).
Ранее мальчик воспринимал смерть лишь как разрушительную силу, которой следует противостоять живому человеку, мечтал вернуть в мир живых умершую мать:
«Говорят, если найдешь цветок папоротника — <…> можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать» ( Астафьев : 14).
Теперь же герой способен принять мир таким, какой он есть, и видеть сосуществование его разных измерений как естественный закон бытия.
Результат инициационной встречи героя волшебной сказки с Бабой-ягой — перерождение его души и сознания. Как мы убедились, подобные глубинные метаморфозы переживает и герой Астафьева. Если мотив воскресения, связанный с завершающим этапом инициации, представлен в повествовании лишь на уровне символической семантики, то мотивные комплексы преображения и возвращения реализованы конкретно-событийно:
«Глухой ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей что-то свершилось, и не стала меня бранить» ( Астафьев : 16).
В заключение отметим, что, в отличие от фольклорных сюжетов, в «сказке» Астафьева герой проходит не одну, а три инициации-посвящения. Как повторение испытаний представлены в произведении сцены смерти и похорон Васи-по-ляка, а затем финальные эпизоды, описывающие события внутренней жизни героя, пережитые им «в небольшом, разбитом польском городе» ( Астафьев : 20) во время войны. Анализ финальных фрагментов рассказа мы выносим пока за рамки данной работы, поскольку это требует отдельного детального исследования: заключительные эпизоды произведения, хотя и представляют собой своеобразный эпилог, имеют собственную внутреннюю сюжетную логику, не совпадающую со сказочной, и ее экспликация остается перспективой наших дальнейших изысканий.
Что касается собственно сказочного сюжета инициации, он обретает в рассказе итоговый смысл именно в сцене похорон, где герой сталкивается с испытанием уже не столько психологического, сколько духовно-нравственного характера, при этом вновь оказываясь на границе мира живых и мертвых. Ранее мы уже говорили, что «встреча со смертью» как кульминация испытаний повторяется в истории астафьевского героя неоднократно: сначала это пугающее столкновение с царством мертвых, затем примирение с ним на кладбище, однако подлинным знаком взросления героя и происходящей в нем «метанойи» // «умоперемены» становится именно эпизод смерти и похорон Васи-поляка. Здесь герои рассказа меняются ролями: на «мальчика» теперь похож Вася, которого «вынесли в маленьком, словно бы мальчишеском гробу» (Астафьев: 18), а главный герой «сказки» выполняет по отношению к нему функцию проводника // жреца, отправляющего его в мир мертвых, и «дарителя», возвращающего Васе скрипку.
Эпизод похорон насыщен и рядом других символических, мифологизированных образов и мотивов, приведем здесь в качестве примера лишь две небольшие детали, актуализирующие особо значимые смыслы в контексте наших рассуждений. Так, «несколько живых цветочков мать-мачехи» ( Астафьев : 19), которые мальчик положил в гроб вместе со скрипкой, становятся метафорой «чужой отчизны» или «родной чужбины», олицетворением отношений Васи-поляка с его российской родиной, бывшей для него одновременно и матерью (здесь он родился), и мачехой (родился как изгнанник и приемный сын). Неслучайно и то, что сорваны были цветы «у моста-перекидыша» ( Астафьев : 19), переброшенного через речку, разделяющую село и кладбище, пространство жизни и смерти; вместе с тем этот мост у Астафьева, как и любой другой в фольклоре и мифе, символизирует амбивалентное «единство противоположностей» разных миров: реального и потустороннего, живых и мертвых, родины и чужбины.
В рамках этой статьи мы не можем дать более развернутой интерпретации многих других элементов художественной структуры анализируемого рассказа Астафьева, но проделанное исследование приводит к выводу, что архетипический сюжет инициации и событийно-конкретный, «актуализиро-ванный»5 сюжет произведения живут здесь в отношениях образно-смысловых взаимоотражений и взаимопересечений — так же, как существуют они и в пространстве культуры в целом. На границах реальности, сказки и мифа пребывает и творческое сознание автора, и сознание героя, способного в результате пройденных посвящений на глубинно-диалоги-зированное и одновременно целостное восприятие мира, человека, культуры, самого себя.
Список литературы Мотив инициации в рассказе В. П. Астафьева «Далекая и близкая сказка»
- Букаты Е. М. Поэтика художественного пространства в прозе В. П. Астафьева: «Последний поклон», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты»: автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2002. 28 с.
- Валиева (Ибатуллина) Г. М. Рефлексия как основа образотворчества в системе чеховской прозы: дис. … канд. филол. наук. СПб., 1992. 201 с.
- Дусалина Л. А. Миф и сказка в рассказе В. Астафьева «Далёкая и близкая сказка» // News of science and education. 2018. № 10. С. 65–67.
- Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М., Таборисская Е. М., Штейнгольд А. М. Сюжет и фабула // Вопросы сюжетосложения: сб. ст. Рига: Звайгзне, 1978. Вып. 5. С. 11–21.
- Ибатуллина Г. М. Сквозь призму образа: художественная рефлексия в поэтике русской литературы XIX–XX веков: монография. М.; Берлин: Директ — Медиа, 2017. 320 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480158 (25.03.2021).
- Иванов В. В., Топоров В. Н. Баба — яга // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 1. А — К. С. 149.
- Калимуллин И. И. Особенности мифопоэтики детства в книге В. Астафьева «Последний поклон» // Современное общество, образование и наука. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Тамбов, 31 июля 2013 г. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2013. С. 71–73.
- Ключникова И. В. Реализация мифологемы «дом» в рассказе «Людочка» и лирической повести в рассказах «Последний поклон» В. Астафьева // Научный форум: филология, искусствоведение и культурология. Сборник статей по материалам VI международной заочной научно-практической конференции. Москва, 16–26 февраля 2017 г. М.: Международный центр науки и образования, 2017. С. 34–38.
- Ладыгин М. Б, Ладыгина О. М. Краткий мифологический словарь. М.: Полярная звезда, 2003. 223 с.
- Макрушина Ю. А. Архетипический образ бабушки в повествовании в рассказах «Последний поклон» В. П. Астафьева // Мировая литература глазами современной молодежи. Сборник материалов научно-практической конференции. Магнитогорск, 2016. С. 44–48 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28861843_37098824.pdf (25.03.2021).
- Неверович Г. А. Архетипическая мифологема «свой / чужой / другой» в художественном мире детства деревенской прозы (В. П. Астафьев. «Далекая и близкая сказка») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 4 (58). С. 33–35.
- Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. 512 с.
- Телегин С. М. Миф и Бытие. М.: Компания Спутник+, 2006. 320 с.
- Тюпа В. И. Фазы мирового археосюжета как историческое ядро словаря мотивов // Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы»: от сюжета к мотиву. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1996. С. 16–23.
- Шевцова Д. М. Мифопоэтический образ дерева в цикле рассказов В. П. Астафьева «Последний поклон» // Грехнёвские чтения: словесный образ и литературное произведение: сб. науч. тр. Нижний Новгород: Книги, 2010. С. 252–255.