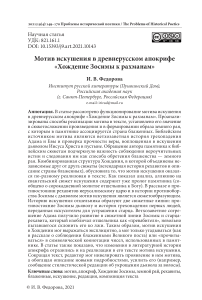Мотив искушения в древнерусском апокрифе "Хождение Зосимы к рахманам"
Автор: Федорова Ирина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено функционирование мотива искушения в древнерусском апокрифе «Хождение Зосимы к рахманам». Проанализированы способы реализации мотива в тексте, установлено его значение в сюжетосложении произведения и в формировании образа земного рая, с которым в памятнике ассоциируется страна блаженных. Библейским источником мотива являются ветхозаветная история грехопадения Адама и Евы и проверка прочности веры, воплощенная в искушении дьяволом Иисуса Христа в пустыне. Обращение автора памятника к библейским сюжетам подчеркнуло важность соблюдения вероучительных истин и следования им как способа обретения блаженства - земного рая. Комбинированная структура Хождения, в которой объединены независимые друг от друга сюжеты (легендарная история рехавитов и описание страны блаженных), обусловила то, что мотив искушения оказался по-разному реализован в тексте. Как показал анализ, аллюзию на евангельский сюжет искушения содержит уже пролог памятника (сообщено о сорокадневной молитве отшельника к Богу). В рассказе о противостоянии рехавитов иерусалимскому царю и в истории противоборства Зосимы с дьяволом мотив искушения является сюжетообразующим. Историю искушения отшельника образуют две сюжетные линии: противостояние Зосимы дьяволу и история грехопадения первых людей, переданная искусителем для устрашения старца. Ветхозаветное согрешение Адама получило развитие в сюжетной линии Зосимы и старца-рехавита, который изобличал отшельника как «превабителя», невольно пытавшегося склонить его ко лжи. Таким образом, мотив искушения в Хождении мог выражаться эксплицитно, а мог только угадываться (как в рассказе о соблюдении блаженными Великого поста) или «прочитываться» в символической коннотации чисел, использованных в памятнике. В статье также показано, что изменения в литературной истории апокрифа отразились и на реализации в его тексте мотива искушения. Сокращая текст, редактор мог нивелировать проявление в нем мотива, а обогащая описание новыми подробностями, усилить его (например, сообщение стилистической редакции об укрощении дьявола за волосы).
Мотив, апокриф, хождение зосимы, земной рай, рехавиты, блаженные, искушение, редакция, композиция текста
Короткий адрес: https://sciup.org/147236179
IDR: 147236179 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.10143
Текст научной статьи Мотив искушения в древнерусском апокрифе "Хождение Зосимы к рахманам"
«Хождение Зосимы к рахманам» (далее — Хождение или Хождение Зосимы) — апокриф, рассказывающий о посещении праведником страны блаженного народа. С греческого оригинала на древнерусский язык памятник был переведен не позднее XIV в.: этим временем датируется старший список. Содержание апокрифа привлекает внимание специалистов, исследующих образ земного рая в русской средневековой книжности, с которым в Хождении Зосимы ассоциируется земля блаженных [Веселовский, 1886: 296–302], [Рождественская], [Мильков, 2020: 23–24]. М. В. Рождественской отмечен ряд мотивов, организующих описание земного рая и пути к нему в апокрифических памятниках и «хождениях» на Святую Землю: мотивы «чуда» и «сна», опасности, изобилия и богатства рая, присутствие проводника, яркий и ослепительный свет [Рождественская: 40]. В статье анализируется мотив искушения в Хождении Зосимы, определяется его роль в сюжетосложении, композиции апокрифа и в реализации образа земного рая.
Мотив искушения — архетипический, его библейским источником является ветхозаветная история грехопадения Адама и Евы (Быт. 3:1–20) и проверка прочности веры, в новозаветном повествовании воплощенная в искушении Иисуса Христа дьяволом во время сорокадневного поста в пустыне (Мф. 4:3–11; Лк. 4:2–8). Проблеме реализации мотива искушения в произведениях древнерусской книжности и Нового времени посвящен ряд работ современных исследователей (см., например: [Коробейникова: 322–323], [Бердникова: 280–287], [Заваркина: 428–437]). По наблюдениям специалистов, этот мотив является традиционным для агиографических памятников, так как «борьба подвижника с искушениями представляет собой основной конфликт в житиях» [Башлыкова: 261]1. В исследовании М. Е. Башлыковой житий, входящих в остав Киево-Печерского патерика, показано, что разнообразие описанных в них ситуаций искушения сводится к устойчивой схеме, «которая может быть краткой или распространенной. В первом случае она состоит из трех элементов: возникновение искушения, впадение в искушение, победа над искушением. В распространенном варианте в первый элемент добавляется описание стойкости инока, и впадение в искушение происходит только после усиления вражеских козней» [Башлыкова: 261]. Но в эту схему не укладываются ситуации, связанные с испытанием прочности веры, когда святой не поддался искушению. Их атрибутивными признаками М. Е. Башлыкова называет ряд топосов и речевых формул: постоянство в подвигах и добродетелях, пост и молитва, «запрещальные молитвы», жизнь подвижника после преодоления искушений и усиление духовных подвигов [Башлыкова: 267–271]. Мотив искушения входит в состав такого «вечного» сюжета мировой литературы, как «договор человека с дьяволом». В мотивной структуре этого сюжета, как показал В. И. Тюпа, искушение является одним из его «узловых» элементов [Тюпа: 54]. На примере древнерусских произведений сюжет «договор человека с дьяволом» изучен и описан О. Д. Журавель, представившей его как «сочетание сюжетных функций двух главных персонажей, формирующих основной конфликт, — человека и дьявола» [Журавель: 6]. Исследовательский интерес к мотиву искушения в творчестве писателей XIX–XX столетий определен не только стремлением соотнести его с инвариантом и установить роль в развитии сюжета и образной системы произведения, но и тем, что «позволяет понять, насколько сознанию писателя близка “христианская антропологическая модель”» [Федосеева: 382].
В современной науке существуют различные концепции понятия «мотив» (подробнее об этом см.: [Силантьев: 15–74])2. Мы опираемся на хрестоматийное определение мотива А. Н. Веселовского как «простейшей повествовательной единицы, образно ответившей на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения» [Веселовский, 1940: 500]. Отличительным свойством мотива исследователь считал повторяемость и неразложимость, обусловленную его семантической ценностью, и разграничивал мотив и сюжет как комплекс мотивов [Веселовский, 1940: 494–500]. Рассматривая реализацию мотива искушения в Хождении Зосимы, мы будем ориентироваться на рукописную традицию памятника, позволяющую проследить, как редакторами разных эпох «прочитывался» в тексте этот мотив.
Долгое время Хождение Зосимы было известно в двух списках: Сильвестровский список, сохранившийся в составе сборника XIV в. (РГАДА. Ф. 381 (Синодальная типография). Оп. 1. № 53), и Синодальный список сер. XVII в. (ОР ГИМ. Синодальное собр. № 817) [Ванеева: 489], [Мильков, 2016: 45]. В рукописи кон. XVIII в. (ОР РГБ. Ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова). № 93) нами обнаружен еще один список памятника — Тихонравовский. Уникальность рукописной традиции апокрифа в том, что каждый список сохранил разные редакции его текста. По характеру правки их называют сокращенной редакцией (Сильвестровский список), пространной (Синодальный), стилистической (Тихонравовский)3.
Обратимся к памятнику и посмотрим, как реализован в нем мотив искушения, выбрав для цитирования пространную редакцию — Синодальный список4. На текст этой редакции ориентируются исследователи, характеризуя композицию произведения, которая имеет комбинированную структуру, состоящую из двух независимых друг от друга сюжетов: легендарной истории о переселении рехавитов за мифическую реку5, отделившую их от грешного мира, и описания страны блаженных людей, соотносимого с рассказом Палладия о рахманах [Ванеева: 489–490], [Мильков, 2016: 44], [Смагина: 131], [Воробьева: 56]. Обрамляет эти сюжетные линии рассказ о жизни и путешествии отшельника Зосимы в земной рай и обратно.
С чудесной помощью преодолев преграды на пути, Зосима оказался в стране праведников. Увидев нагого человека, он испугался, что перед ним дьявол, в Синодальном и Сильве-стровском списках апокрифа названный «превабителем» (79, 83), т. е. «соблазнитель, искуситель»6. Таким образом, мотив искушения в этой части повествования ассоциируется с образом дьявола — подстрекателя людей к совершению греха. Испуг праведника рассеялся, когда он вспомнил о том, что в земной рай не пройдет «превабитель свѣта суетнаго» (83), т. е. земля, куда Зосима попал, чистая. В Тихонравовском списке Зосима изначально знает, что перед ним «человѣче Божий» (л. 51 об.)7 и не боится нагого. Фрагмент текста, читающийся в старших списках, здесь редактором опущен, и, следовательно, мотив искушения в этой части стилистической редакции оказался нивелирован.
Обозначенный в тексте старших списков мотив искушения получил развитие в рассказе о пребывании Зосимы в стране праведников. Когда ангел Господень сообщил им, что пришедший от суетного мира послан Богом и «пребудет» с ними семь дней, «списав себе все житие ваше блаженное», то к нему приставили старца, поселившего Зосиму в своей хижине. Учитывая, что в земной рай проход смертным был закрыт, к Зосиме стали приходить мужи и расспрашивать «о всемъ». «Изнемогши душею и тѣломъ» от расспросов и рассказов о суетном мире, Зосима попросил старца об отдыхе: «Молю тис, брате, аще кто приидетъ, рцы имъ: нѣе его здѣ, да быхъ упочилъ мало» (84). Эту просьбу старец воспринял как искушение, а Зосиму как искусителя: «…яко превабление Адам-ле объявися въ насъ…» (84) (здесь и далее курсив наш. — И. Ф .). Усилению мотива способствуют образы Адама и Евы, параллель с которыми проводит праведник, отвечая на просьбу Зосимы: «…Адама и Еву переваби диаволъ; мой ж человѣкъ тихьми словесы лжетъ: сущу бо ему сдѣ, и се велитъ ми лга-ти…» (84). С одной стороны, в монологе рехавита оказался мотивирован его гнев на просьбу Зосимы (солгать — поддаться искушению и согрешить), с другой стороны, обозначена архетипическая модель искушения. Это хорошо видно на примере передачи текста стилистической редакцией, автор которой развивает ветхозаветную историю преступления Божией заповеди Адамом: « Оный бо супругою своею Евою преступи Владычню заповѣдь, а Ева прелстися самимъ диаволом. Вмѣсто же врага мене хощет сей, пришедый человѣкъ, в прел-щение привести тихими своими словесы и поставити мя желает солгателем, сущу ему здѣ» (л. 53).
Таким образом, просьба, казавшаяся Зосиме невинной, противоречила устоям жизни рехавитов, поэтому ассоциировалась у праведного мужа с греховным миром, о чем свидетельствуют его слова, завершающие гневный монолог: «…се бо всѣати хощетъ сѣмена суетнаго мира!» (84). Причина гнева становится понятной, если вспомнить еще и о шестом прошении молитвы «Отче наш» — «и не введи нас во искушение», когда, согласно толкованиям, возникает опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех, а искушение, помимо дьявола и плоти человеческой, приходит от мира и других людей8, как это и происходит в развитии сюжетной линии отшельника Зосимы и старца-рехавита. Восприятие праведником просьбы Зосимы как ветхозаветного искушения полнее раскрывается в описании жизни рехавитов, лейтмотивом которой становится соблюдение заповедей их родооснователя — Рехава, «сына сыновъ Адамль» (86).
Верность родовым заповедям помогает рехавитам не поддаться искушению от иерусалимского царя, принуждавшего их отказаться от своих устоев и жить обыденной жизнью: «…смѣситесь съ женами своими и хлѣбъ яжьте и вино пиите и славите Бога нашего и будете покаряющеся Богу и царю» (86). Это еще один аспект реализации в памятнике мотива искушения, который определяет развитие сюжета, известного в мировой литературе как «прение о вере». Ставя Бога выше царя, рехавиты отказались преступить заповедь своего отца, за что были брошены в темницу. Благодаря ангелу в ту же «нощь» они оказались освобождены и обрели «землю сию», т. е. рай. В этом фрагменте памятника можно увидеть зеркальное отражение истории Адама и Евы: поддавшись искушению, они нарушили запрет Творца и потеряли рай, а рехавиты своей верностью устоям отца Рехава преодолели первородный грех — «есмы безъ грѣха» (87) — и обрели земной рай.
Ветхозаветная история согрешения первых людей по-разному реализуется в апокрифе. В том числе и латентно, через мотив «праведной одежды», характерный для рассказа о пребывании Зосимы в раю. Попав к блаженным людям, Зосима спрашивает встреченного мужа: «Почто еси, брате, нагъ?», — на что тот отвечает старцу, что, не зная того, «самъ бо еси нагъ: ты бо носиши кожю овецъ земныхъ, и то истлѣетъ съ тѣломъ твоимъ» (83). Отказ от земных риз как залог спасения перед надвигающейся гибелью Иерусалима, по пророчеству Иеремии, становится одним из первых требований отца Рехава к своему роду наряду с отказом от хлеба и вина: «Съвлецѣте ризы съ тѣлъ вашихъ…» (85). Мотив «праведной одежды» получил развитие в житии, написанном блаженными для Зосимы. Рассказывая о жизни в земном раю, где нет ни домов, ни огня, ни дней и ночей, блаженные мужи подчеркивали, что имеют одежду «праведну», поэтому «не студимся другъ друга», хотя в суетном мире о них бы сказали, что «назиж есмы» (87). О «сотворении» Адаму наготы и обретении первым человеком через нее «прелесть и смерть и грѣхъ» говорил дьявол, устрашая Зосиму искушением и погибелью (90–91). Показательно, что в сирийской версии нашего апокрифа праведная одежда прямо возводится к Адаму и Еве до согрешения: «…облачены одеждой славы, которой были одеты Адам и Ева до того, как согрешили», — а земля блаженных ассоциируется с потерянным раем: «…это место было подобно раю Божьему, а эти блаженные — Адаму и Еве до того, как те согрешили»9.
Мотив испытания человека на прочность веры угадывается и в рассказе о соблюдении блаженными Великого поста: «Егдаж приидетъ година поста, и тогда престанутъ вся плоды древяныя и падетъ намъ манна съ небесе, юже бѣ далъ Господь отцемъ нашимъ въ пустыни: есть бо слажьшѣе меду манна та» (88). Как известно, ежегодный Великий пост был установлен в память о сорокадневном посте Иисуса в пустыне, а ветхозаветный рассказ об утолении голода израильским народом манной небесной некоторыми толкователями Библии рассматривается как параллель к евангельскому искушению Христа дьяволом превратить камни в хлеба, чтобы насытиться [Толковая Библия: 68, примеч. 4]. Таким образом, в этой части описания земного рая также можно увидеть аллюзию на евангельскую историю искушения. Аллюзивный план в Хождении Зосимы важен для реализации идеи чистоты праведников, преодолевших греховность первого человека и следующих путем нового Адама10.
Сюжетообразующим мотив испытания прочности веры является в рассказе о возвращении Зосимы из земного рая в свою пещеру. Дьявол воспринимает отшельника, принесшего житие блаженных, как одного из них. По словам искусителя, через это житие и другие смертные смогут приобщиться к праведной жизни и отказаться от греха, поэтому для него важно не допустить устроения такого миропорядка и погубить Зосиму. О предстоящем искушении отшельника предупреждает явившийся ему ангел («Се прииде дияволъ искусит тебе») и открывает Зосиме, что ему предстоит пройти через искушение верой ( «слава бо вЪры твоеа связати имать сатану» (90) ) , как и в евангельской истории о третьем искушении Христа (Лк. 4:6–8). В рассказе о противостоянии Зоси-мы дьяволу мотив искушения реализуется двояко.
Дьявол приходит к Зосиме дважды: сперва предупреждает об искушении, затем с бесами похищает его из пещеры и избивает 40 дней. Первую сюжетную линию организует монолог дьявола, которым он «возвращает» в текст мотив искушения Адама и рассказывает его историю: «…азъ промысломъ зломъ внидохъ во змию и тѣмъ створихъ и Адаму, первому человѣку, наготу и внесохъ на ня прелесть и смерть и грѣхъ, и тако отпадоста славы божия и святыхъ ангелъ. Или ты нынѣ шедъ принеслъ еси житие блаженныхъ, дабы и здѣ безъ грѣха человѣцы были? Но азъ ти покажу, како тя погублю и тѣхъ, иже приимутъ, яже еси принеслъ» (90–91). В тексте Сильве-стровского списка, в отличие от процитированного Синодального, ветхозаветная история искушения передана детальнее и, можно думать, точнее отразила оригинал древнерусского перевода апокрифа, так как содержит сообщение о запрете первым людям вкушать плоды с древа познания. С учетом правки издателя этот фрагмент Сильвестровского списка читается так: «Придохъ в змию имъ створихъ Адама первоздана человѣка вкусити древа животнаго. То бо има Богъ запретилъ не вкусити и быти подобныма словесе Божъя. И вне-сохъ азъ на нь прѣльсть смерть и грѣхы и отпадоста славы Божия и от святыхъ ангелъ…» (81). Автор стилистической редакции опустил в монологе дьявола ветхозаветный рассказ, а также сообщение старших списков о «дивии» образе явившегося искусителя («гн^ва исполненъ и ярости горкы» (90)), из-за чего угроза потеряла свою остроту и понизила смысловую значимость монолога дьявола: «Азъ мних, яко сотвори тя Богъ подобна по всему блаженным человѣком и имаши пребывати без грѣха, яко аггелъ Божий. И принеслъ еси с собою весь закон блаженных человѣкъ, дабы вси людие без грѣха были. И аз ти покажу, какъ тя погублю!» (л. 58). Редактором это было сделано намерено, так как в рукописи (ОР РГБ. Ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова). № 93) после Хождения Зосимы читается апокриф об Адаме и Еве, подробно рассказывающий историю грехопадения и рукописания, данного первым человеком дьяволу11. Если исходить из контекста Сильвестровско-го и Синодального списков апокрифа, то дьявол победил первых людей, поддавшихся его искушению, а Зосима сумел противостоять ему силой молитвы и вышел победителем. В Тихонравовском списке такая аналогия не выстраивается. Таким образом, благодаря постоянному обращению автора Хождения к ветхозаветной истории грехопадения проявляется «сюжетный параллелизм» текста, усиливающий характерную для памятника идею праведности: одни искушены — другие без греха, одни потеряли Эдем — другие обрели земной рай.
Тихонравовский список отличается от Сильвестровского и Синодального еще и оформлением финала противостояния Зосимы дьяволу. Если в старших списках старец победил искусителя молитвой: «И потомъ восплакася дьяволъ предъ мною и рече: “О горе мнѣ, яко сей одолѣ мя молитвою своею!”» (91), — то в Тихонравовском списке Зосима вступает с дьяволом еще и в физический контакт, хватая его за волосы: «Тогда аз Божиею помощию яхъ его за косму и рекох ему: “Не имам тя пустити, дондеже кленешися мнѣ!”» (л. 58)12. Укрощение беса за волосы является одним из способов борьбы святого с нечистой силой, описанных в житиях-мартириях и патериковых легендах [Антонов: 63–71]13. И хотя автор стилистической редакции не развил демонологического сюжета, отсылка к нему в Тихонравовском списке Хождения придала рассказу динамизм, усилило победу праведника над искусителем и мотивировало его плач и клятву, данную отцу Зосиме: «Тогда диавол начат с плачем клятися мнѣ, глаголя: “Основавший небо и землю! Доколь житие твое здѣ будетъ, не имам приити на мѣсто сие!”» (л. 58). Финал противостояния Зосимы дьяволу, изгнанному в геенну («Тогда азъ послах его во огнь вечный» (л. 58)), также традиционен для агиографических памятников, рассказывающих об укрощении праведником нечистого духа [Антонов: 67–69]. Рассказ об искушении Зосимы близок патериковому житию как жанру малой агиографической формы, в центре которого находится изображение одного, но «самого значительного в подвижнической деятельности героя» события, а не последовательное описание жизни святого от рождения до посмертных чудес [Ольшевская: 245], [Башлыкова: 346]14.
Таким образом, историю искушения Зосимы дьяволом наряду с легендарной историей рехавитов и описанием страны блаженных людей, на наш взгляд, можно рассматривать как самостоятельный сюжет в структуре Хождения, а его композицию представить как комбинирование не двух, а трех сюжетов, в которых по-разному функционирует и проявляется мотив искушения15.
Проявлению мотива в памятнике способствует и нумерологическая поэтика текста. Символическая коннотация чисел, приведенных в Хождении, подробно рассмотрена в статье С. Н. Воробьевой, где показана их роль в организации композиции текста и понимании «внутренних пластов» его смысловой организации [Воробьева]. Так, в числе 40, которым обозначено время, проведенное Зосимой в молитве перед путешествием в рай, на пути к раю и из рая до пещеры, а также искушения Зосимы дьяволом, исследовательница усматривает разные символические коннотации. Сорок дней и ночей, проведенных Зосимой в молитве перед путешествием, она толкует как «символ приуготовления к чему-то важному, особенному, к новой жизни» [Воробьева: 58]. А в сорока днях пути к раю исследовательница склонна видеть указание на тяжелые телесные испытания и духовные искушения, с которыми связан долгий путь [Воробьева: 58]. Закономерно в этой связи и финальное сорокадневное искушение Зосимы дьяволом, так как символика числа «связывалась в сознании верующих с испытаниями, посланными Господом» [Воробьева: 59]. На наш взгляд, символическая коннотация чисел проявляет еще и мотивную организацию текста, когда она не очевидна. Так, открывающее памятник сообщение о сорокадневном посте отца Зосимы не только указывает на «приуго-товления к чему-то важному», но и отсылает к евангельскому рассказу о сорокадневном посте Иисуса Христа и искушении дьяволом. Таким образом, через нумерологическую символику и связанную с ней библейскую аллюзию уже в прологе памятника условно-символически обозначен мотив искушения, получивший развитие в рассказе о сорокадневном противостоянии Зосимы и дьявола16, как и искушение Христа, завершившееся победой над темной силой17.
Как уже отмечалось, важную роль в разрешении конфликта Зосимы и дьявола играет молитва, которая становится орудием старца в противостоянии с искусителем. Мотив «молитвы» характерен и для других структурных частей памятника: она предшествует всем событиям, описанным в Хождении Зосимы, либо с ее помощью разрешается сюжетная коллизия.
Апокриф начинается с рассказа о молитве Зосимы к Богу, чтобы увидеть «житие блаженныхъ человѣкъ» (81). По молитве старец преодолевает препятствия на пути к раю, ибо «немощно бо есть человѣку» перейти через реку и облачную стену (85). Актуализирован мотив «молитвы» в рассказе о встрече Зосимы с рехавитами. Так, просьба об отдыхе Зо-симы к старцу-рехавиту сопровождается молитвой («помо-лихся человеку Божию» (85)). Согласно Синодальному списку, прощения у рехавитов за невольное искушение Зосима получил через покаяние (85), а в Тихонравовском списке сказано: «Азъ же начах им молитися и Бога моего в слезах призыва-ти» (л. 53). Молитва ко Господу как одна из заповедей жизни рехавитов была дана им родооснователем Рехавом, и ею же был спасен Иерусалим: «И услыша Господь молитву нашу и възврати гнѣвъ свои отъ насъ…» (85). Жизнь блаженных, как и проводы их душ к Господу, происходят с молитвой: «Пребываем же, молящеся Богу день и нощь…» (87). Вместе с блаженными Зосима молится о своем благополучном возвращении в суетный мир (89).
С мотивом «молитвы» тесно связан и мотив «чуда», имеющий особую роль в организации повествования о пути Зоси-мы в рай и из рая. Одинаково построенные «дорожные» части апокрифа придают его смысловому ядру кольцевую композицию, проявлению которой и способствует мотив «чуда»: с чудесной помощью герой преодолевает преграды на пути и оказывается в стране праведников. Этот мотив характерен и для рассказа Синодального списка о спасении рехавитов из темницы, когда явившийся ангел « имъше ны за власы главъ нашихъ и изнесе ны ис темницы…» (86)18. А в Тихонравовском списке мотив «чуда» проявляется и в рассказе о продолжении рода блаженных, когда свое место у священной реки, разделяющей праведников и их жен, в определенное время вынужден был покидать даже «лютый звѣрь» тигр, таким образом отдавая должное праведному браку (л. 55 об.)19. Мотив «чуда» характерен для всего рассказа о жизни блаженных людей, не имеющих счета дням и ночам, не знающих заботы о хлебе и воде, жилище, имеющих радостное долголетие. Чудесен и их последний путь, когда душа восходила ко Господу: «…нѣс бо мукы, ни труда, ни болѣзни тѣлу нашему…» (88). Чудо случилось и после смерти «преподобнаго отца» Зосимы: «И въ тои часъ взидоша 7 фуникъ на мѣстѣ томъ, вода ж та свята ес и до сего дни…» (91). Так по воле Божией пещера отшельника после его смерти оказалась украшена плодоносящими деревьями и неиссякаемым источником — символами рая20.
В сокращенной редакции сообщение о смерти отца Зосимы опущено, ее текст заканчивается историей искушения старца: «И потомъ приде ангелъ, пребывая со мною, и ангели съ нимъ, и вознесоша мя славою великою въ пещеру, и жихъ потомъ лѣтъ 3» (81). Рассказ о смерти праведника, известный по тексту пространной и стилистической редакций, не содержит мотива искушения. Возможно, поэтому он и был пропущен автором сокращенной редакции, акцентировавшим внимание читателя на истории преодоления искушения.
Обобщим сказанное. В описании земного рая как праведного и безгреховного пространства — нового Эдема — в древнерусском апокрифе Хождение Зосимы особое значение имеет мотив искушения. Через него автор актуализировал историю ветхозаветного прегрешения первых людей и их изгнания из рая и евангельскую победу Христа над дьяволом как пример должной борьбы с силами зла. Таким образом, мотив способствует прояснению главной идеи апокрифа о важности соблюдения вероучительных истин и следования им как способа обретения блаженства (т. е. счастья). Комбинированная структура памятника обусловила то, что мотив искушения реализуется в нем по-разному.
Ориентация автора на евангельский сюжет искушения Иисуса в пустыне проявилась в прологе памятника (сообщается о сорокадневной молитве отшельника к Богу, «дабы видел житие блаженных»), в рассказе о противостоянии рехавитов иерусалимскому царю, занимающем центральное место в истории обретения ими земного рая, и в описании искушения Зосимы дьяволом. Рассказ об искушении праведника верой образуют две сюжетные линии: противостояние Зосимы искусителю молитвой и история грехопадения первых людей, переданная дьяволом для устрашения отшельника. Ветхозаветное искушение вспоминает и старец-рехавит, изобличая Зосиму как «превабителя», невольно пытавшегося склонить его ко лжи. Таким образом, в рассказе об испытании прочности веры мотив искушения является сюжетообразующим.
Рассматриваемый мотив в Хождении реализован в разных формах. Он может выражаться эксплицитно, а может быть уведен в контекст и только угадываться, как в описании традиции блаженных соблюдать Великий пост или в символической коннотации чисел, использованных в памятнике.
Проведенный анализ показал, что мотив искушения осознавался древнерусскими книжниками, в разное время редактировавшими текст Хождения. Так, в хронологически поздней стилистической редакции пропущены описание испуга Зо-симы, увидевшего нагого рехавита, и рассказ дьявола об искушении им первых людей. В результате редактирования текста историю искушения Зосимы в Тихонравовском списке памятника организует одна сюжетная линия — искушение праведника верой. При этом только в стилистической редакции читается сообщение о том, что Зосима укротил дьявола, схватив его за волосы, и, таким образом, в этом варианте текста обозначен демонологический сюжет борьбы святого с нечистой силой, характерный для агиографических памятников. Сюжетная схема искушения Зосимы (предупреждение об искушении — противостояние героя дьяволу — победа героя) близка патериковому житию, что позволяет представить композицию апокрифа как комбинацию трех сюжетов — легендарной истории рехавитов, описания страны блаженных людей и «житийной» линии (искушение праведника и его жизнь после), связанных друг с другом в том числе и мотивом искушения. Показательно, что сокращенная редакция заканчивается рассказом об искушении Зосимы: описание смерти праведника, читающееся в пространной и стилистической редакциях, намерено книжником было опущено. Таким образом автор сокращенной редакции акцентировал внимание читателя именно на истории искушения, так как рассказ о праведной смерти Зосимы, аналогичной смерти блаженных в земном раю, лишен этого мотива. Не характерен он и для путешествия старца в земной рай и обратно: в «дорожных» частях композиции памятника проявлены мотивы «чуда» и «молитвы», помогающие праведному Зосиме преодолеть чужое пространство и достичь желаемой цели — рая.
Список литературы Мотив искушения в древнерусском апокрифе "Хождение Зосимы к рахманам"
- Антонов Д. И. «Беса поймав, мучаше...». Избиение беса святым: демонологический сюжет в книжности и иконографии Средневековой Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. № 1 (39). С. 61-75.
- Башлыкова М. Е. Топика житий в Киево-Печерском патерике редакции 1661 года // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. Сб. 15. С. 187-416.
- Бердникова О. А. Мотивы искушения в творчестве И. А. Бунина в аспекте христианской антропологии // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 12 (85). С. 279-288.
- Ванеева Е. И. Хождение Зосимы к рахманам // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 489-491.
- Веселовский А. Н. Из истории романа и повести: материалы и исследования. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1886. Вып. 1. 511, 80 с. (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Вып. 40. № 2.)
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л.: Худож. лит., 1940. 649 с.
- Воробьева С. Н. Мистическая символика числа в контексте религиозного дискурса (на примере апокрифа «Хождение Зосимы к рахманам») // Научный журнал «Дискурс-Пи». 2019. № 3 (36). С. 53-62. DOI: 10.24411/1817-9568-2019-10304
- Журавель О. Д. Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнерусской литературе. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. 234 с.
- Заваркина М. В. Сюжет «испытания веры» в повести А. Платонова «Джан» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 427-441 [Электронный ресурс]. URL: https:// poetica.pro/files/redaktor_pdf/1577186736.pdf (10.03.2021). DOI: 10.15393/ j9.art.2013.395
- Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI-XVI века). СПб.: Алетейя, 2000. 320 с.
- Коробейникова Л. Н. О сюжетосложении «Жития Галактиона и Епи-стимии» (к проблеме типологии переводных византийских житий) // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Языки славянской культуры, Прогресс-традиция, 2004. Сб. 11. С. 321-350.
- Краснова Н. А. К проблематике анализа системы мотивов художественного произведения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Педагогика и психология. Филология и искусствоведение. 2008. Т. 10. № 1. С. 245-250.
- Мильков В. В. Тема земного рая в древнерусских апокрифах 1: Хождение Зосимы к рахманам // Язык и текст. 2016. Т. 3. № 4. C. 44-71 [Электронный ресурс]. URL: https://psyjournals.ru/files/84202/langpsy_2016_n4_Milkov. pdf (10.03.2021). DOI: 10.17759/langt.2016030405
- Мильков В. Земной рай в религиозных представлениях Древней Руси // Quaestio Rossica. 2020. Т. 8. № 1. С. 19-35. DOI: 10.15826/qr.2020.1.445
- Ольшевская Л. А. «Прелесть простоты и вымысла...» // Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / изд. подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М.: Наука, 1999. С. 233-252.
- Полева Е. А. Приемы визуализации в формировании мотива искушения в рассказе Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой» // ПРАННМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 3 (21). С. 182-196. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-3-182-196
- Рождественская М. В. Рай «мнимый» и Рай «реальный»: древнерусская литературная традиция // Образ рая: от мифа к утопии: сб. ст. и мат-ов конф. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С. 31-46. (Серия «Symposium»; вып. 31.)
- Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // Труды Отдела древнерусской литературы / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 431-500.
- Силантьев И. В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 294 с.
- Смагина Е. Б. Повествование о «монашеской утопии» в коптской литературе как результат конвергенции // Свет Христов просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. М., 2018. Вып. 27. С. 119-133.
- Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета / под ред. А. П. Лопухина. СПб.: Типография Я. Трей, 1911. Т. 8 (Евангелие от Матфея). 478 с.
- Тюпа В. И. К вопросу о мотиве уединения в русской литературе Нового времени // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы: сюжет и мотив в контексте традиции. Новосибирск: Издательство СО РАН, 1998. Вып. 2. С. 49-55.
- Федорова И. В. «Стихотворение о Христе Иисусе, Господе нашем» в литературном сборнике XVIII в. из собрания Н. С. Тихонравова // Труды Отдела древнерусской литературы / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Наука, 2021. Т. 68. С. 577-596. DOI: 10.31860/0130-464X-2021-68-576-596
- Федосеева Т. В. Мотив искушения монаха в творчестве Я. П. Полонского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 2014. Вып. 12. С. 380-398 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/ redaktor_pdf7l429698346.pdf (10.03.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2014.753