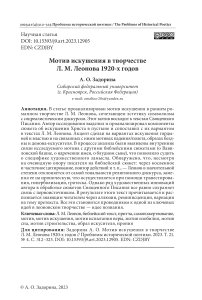Мотив искушения в творчестве Л. М. Леонова 1920-х годов
Автор: Задорина А.О.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован мотив искушения в раннем романном творчестве Л. М. Леонова, сочетающем эстетику символизма с соцреалистическим дискурсом. Этот мотив восходит к текстам Священного Писания. Автор исследования выделил и проанализировал компоненты сюжета об искушении Христа в пустыне и сопоставил с их вариантом в текстах Л. М. Леонова. Акцент сделан на вариантах искушения гордыней и властью и на связанных с ними мотивах падения/полета, образах бездны и демона-искусителя. В процессе анализа были выявлены внутренние связи исследуемого мотива с другими библейскими сюжетами (о Вавилонской башне, о наречении имен, о блудном сыне), что позволило судить о специфике художественного замысла. Обнаружено, что, несмотря на очевидную опору писателя на библейский сюжет: через косвенное и частичное цитирование, повтор действий и т. п., - Леонов в значительной степени отклоняется от самой тональности религиозного дискурса, заменяя ее на ироническую, что осуществляется при помощи травестирования, гиперболизации, гротеска. Однако ряд художественных инноваций автора в обработке сюжетов Священного Писания все равно сохраняет связь с первоисточником. В результате этого текст прочитывается и распознается знающим читателем через аллюзии, реминисценции, вариации на тему претекста. Все это становится проводником к одной из ключевых идей в леоновском творчестве - идее познания.
Л. м. леонов, библейский текст, притча, самопожертвование, мотив, мотив искушения, мотив испытания веры, мотив изобилия, мотив сна, мотив строительства, образ искусителя, ирония
Короткий адрес: https://sciup.org/147242338
IDR: 147242338 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12905
Текст научной статьи Мотив искушения в творчестве Л. М. Леонова 1920-х годов
М отив искушения является одним из типичных для древнерусской агиографии и религиозного искусства в целом.
Логически он связан с мотивом аскезы, так как сам смысл искушения подвергает сомнению необходимость намеренного отказа от земных благ. Значимость мотива обусловлена его функцией — испытание веры, «искушение рассматривается как испытание для духа, двигатель праведности и внутренней силы» [Коноваленко: 359]. Смысл испытания раскрывается в действенной реакции героя на него, то есть герой преодолевает или не преодолевает затруднение. На этом этапе мотив может обрастать дополнительными значениями в конкретном тексте ( алломотивами , см.: [Путилов]), которые и формируют семантическое ядро мотива [Силантьев: 44]. В библейском сюжете об искушении Христа в пустыне Спаситель проходит испытание голодом, гордыней и властью — данные этапы духовного испытания представлены и в судьбах героев Л. М. Леонова1.
Воплощение и трансформация мотива искушения-испытания в произведениях Л. М. Леонова позволяют предположить характер взаимоотношений писателя с ортодоксальным православием. Для Леонова во главе угла всегда стоит человек — сложный, многогранный, противоречивый. Этот человек не вписывается в прокрустово ложе догм, он зачастую становится нарушителем Божьих заповедей, но лишь потому, что ему самому нужно их открыть. К вере леоновский герой приходит (если приходит), только пройдя тернистый путь собственных заблуждений. Именно поэтому мотив искушения является ключом к образам многих героев Леонова: живой человек может и должен искушаться, в этом искушении и есть познание жизни (см.: [Задорина, 2020a, b; 2021]). В «Пирамиде» Л. М. Леонов пишет о своей непреходящей тяге как художника, мастера, исследователя к проблеме искушения-испытания:
«…почему так пресен хлеб богача, почему не совратили святого Антония первоклассные прелести адских женщин, почему все обольщения цивилизации не могут заглушить в нас тоски о некоем блаженном прадетстве»?2
В центре нашего внимания разработка в леоновских романах 1920-х гг. мотива искушения как испытания веры, связанного с выбором пути, духовной аскезой и отчаянием, движением к Богу или в бездну. Один из самых выразительных примеров искушения гордыней и властью представлен в романе «Барсуки» (1923–1924) в притче о Калафате. Этот вставной эпизод часто становился предметом исследования3. Н. Л. Леонова (дочь писателя) описала творческую историю создания данного сюжета (см.: [Леонова]) и опубликовала его первоначальный вариант и дальнейшие редакции. Интерпретация притчи о неистовом Калафате как крестьянской версии библейского сказания о Вавилонской башне, весьма популярного в искусстве 1920-х гг. (см.: [Вахитова: 166]), давно стала общим местом. Соглашаясь с мнением ученых, мы лишь дополним его мотивным анализом событий, происходивших в эпизоде до начала чудесного строительства. Очевидно, что сам мотив строительства башни становится завуалированной формой мотива искушения — человек искушается возможностью стать демиургом. Однако этот мотив задается и в другой части притчи, предшествующей повествованию о башне.
Само имя Калафат («до всего доберусь») уже намекает на амбиции его носителя, и действительно, Калафат претендует на статус вседержителя. Первое действие Калафата — перепись всего сущего на земле, что соотносится с первыми действиями Адама, первочеловека:
|
Калафат |
Адам |
|
«На рыб поставил он клейма, птицам выдал пачпорта, каждую травину записал в книгу»4 |
«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2:20) |
2 Леонов Л. М. Пирамида: в 2 т. М.: Голос, 1994. Т. 1. С. 582.
3 См. след. работы: [Семенова], [Вахитова], [Якимова].
Действие Калафата повторяет действие Адама — оба направлены на то, чтобы закрепить явление в Книге Жизни при помощи слова, обратить хаос в космос; различие лишь в форме — изначально устной, у Калафата — письменной. Тем самым Калафат как бы заново начинает историю бытия человека на Земле. В начале Бог создает Словом мир (первый ономатет в христианской традиции), затем Адам создает слова для описания этого мира (первый ономатет среди людей, второй после Бога), после Калафат составляет перепись всего в мире (первый ономатет-чиновник). Встречаются интересные трактовки приведенного библейского эпизода, которые не только дают его буквальное прочтение, но и уточняют возникшую при этом картину мира. Так, например, еп. Виссарион замечает:
«Обозревая животных и нарекая им имена, Адам не встретил между ними ни одного, с которым бы мог разделить владычество над земными тварями, предстоявшие ему труды телесные, также мысли и чувства»5.
Получается, что и для Адама, и для Калафата мотив обретения власти над другими явлениями мира воплощается через мотив именования, однако в леоновском тексте этот процесс получает ироническую окраску, ведь у зверей, птиц, трав уже были имена, но теперь им зачем-то выдают новые, что приводит к путанице:
«Медведь и тот чахнет, не знает, человек он или зверь, раз пачпорт ему на руки выдаден»6.
Лишенный возможности стать демиургом и даже ономатетом в высшем смысле этого слова (имена, данные ономатетом, неразрывно связаны с предметами и даже могут заменять их [Донских]), Калафат предлагает формальную ономатопею (связь между именем и явлением редуцируется до номера в списке). Он выдает бессмысленные паспорта, которые вместо создания космического порядка приводят к хаосу, то есть в каком-то смысле действия Калафата обратно противоположны действиям Ад ама и Бога.
В «Провинциальной истории» (1928) мотив искушения гордыней связан через сему падения с суицидальным мотивом. Василий Прокопьич, отчаявшийся в блудном сыне его Андрее, видит освобождение от этой ситуации в самоубийстве, но свое намерение ни от кого не скрывает, напротив, все вокруг («Тут-то я и сообщил… <…> — Налька уже говорила…»7) знают, что это из-за Андрея. Демонстративность жеста подкреплена мотивом пари, самопожертвование превращается в игру, лежащую в основе любого искушения:
«— Он страдалец по преимуществу… по профессии, — глумился он над отцом. — Такой не прыгнет!
— Василий Прокопьич поспорил с Полуектом на три тысячи, — сделал я нажим на сумме Андреевой растраты.
Он вздрогнул и задумался.
— Тогда, пожалуй, и прыгнет… — В лице его, впрочем, не приметить было огорчения; вскоре он покинул нас» (здесь и далее выделено мной. — А. З .) (99).
Так мотив публичного самопожертвования становится вариантом искушения гордыней: Пустыннов-старший, сообщив Андрею через разных людей, какую цену он, его несчастный отец, может заплатить за сыновние прегрешения, еще более возвышает себя над блудным сыном. Структурное единство леоновского сюжета и фабулы библейского текста прослеживается и в продолжении повести. В Евангелии от Луки читаем:
«И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз , ибо написано: "Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя , да не преткнешься о камень ногою Твоею"» (Лк. 4:9–11).
У Леонова евангельский текст включен в размышление о сути чудес (а точнее, об их отсутствии) в редуцированном виде, но сохранившем узнаваемые компоненты:
«— Для чего живем, у каких стен плачем, какую скуку питаем собою!.. В окаянстве живем, а свет где? Хха, прыгни, а ангелы поддержат т я . Попробуй, прыгни...» (96).
Если Иисус отвергает дьявольское искушение, то Василий Прокопьич поддается ему. Герой собирается броситься с обрыва, но главное в этом намерении не отчаяние, не желание покончить со страданиями земной жизни, а надежда на то, что «на руках понесут» — что сын придет и остановит его. Однако Андрей не поддается искушению стать спасителем отца, и на Чудиловом обрыве Василий Прокопьич встречает только рассказчика. Очевидно, что отец блудного сына может чаять воскрешения мертвых (т. е. раскаяния сына), но не может заставить полюбить себя через манипуляцию, искушение.
В романе «Соть» (1928–1929) искушение властью и гордыней показано в эпизоде сна казначея Вассиана. Будучи одним из самых активных монахов в скиту, Вассиан мечтает о контрастной перемене своей роли в мире. Он простой казначей, все свободное время выращивает овощи, рассказчик с улыбкой отмечает их «ошеломительные размеры» (185) и запах. Но, по собственному мнению, Вассиан достоин большего, и даже овощи у него чуть ли не божественного происхождения:
«— Неслыханно, — дивился не раз Ипат Лукинич, председатель из Макарихи, любитель чинной беседы. — Это уже не редька, а целый продукт!
— Нет, — себе на уме улыбался Вассиан, поглаживая хвостатого своего младенца» (185).
Известный канонический образ Мадонны с младенцем, вдохновлявший художников Ренессанса, Леонов травестиру-ет, заменяя его фигурой попа с огромной редькой в руках. Однако, как мы знаем из существующих биографий Леонова, писатель был человеком весьма остроумным, и подобный маневр был вполне в его духе. Мечты Вассиана о возвышении над прочими иноками показаны и в его сне через мотив изобилия, которое несомненно наступит благодаря ему (жирным шрифтом выделены ключевые понятия):
«Мнятся ему обширные пространства вырубленного леса, а на них цветут благолепные монастырские палаты. Возглавляет их шатровая колоколенка, видная из четырех волостей, строенная по собственной его, Вассиановой, причуде. Кружевные яруса легко взбегают вверх, а вверху развешаны колокола, басовитые деды со звонкими внучатами. И будто бы в знойное утро Духова дня, напоенное колокольным плеском и птичьим щебетом, ждет обитель губернаторского приезда… <…> Сам он, Вассиан, стоит у ограды, прямо против паперти, слаженной из кованого рисунчатого чугуна, и зорко блюдет порядок и благочиние… И будто всех он знает по имени-отчеству, и его тоже знают все. Потом ветроподобно проскакивают взмыленные кони, и вот сам губернатор, сверкая сановной чешуей, сходит из коляски на хрусткий, незатоптанный песок. Он улыбается, и все улыбаются ему, и даже могучий архангел, который в огненных сапогах изображен на стене собора, смягчает свой немилосердный, темный лик» (184).
Итак, сон формирует картину изобилия, противоположного нищете скита, и причина этого изобилия, типичного для изображения Царствия Небесного, кроется в самом Вассиане: через его творчество, через его надзор Бог открывает вход в Царствие до Страшного суда. Однако этот вход не для живых — и сон заканчивается прозрением казначея о грядущей смерти.
Искушение гордыней и властью тесно связано с мотивом полета — вспомним, как Сатана предлагает Иисусу броситься вниз, и если Он действительно Сын Божий, то не погибнет, а полетит, несомый крыльями ангелов (Лк. 4:9–11). Мотив соблазнительного полета звучит в горделивых мечтах казначея:
«Воистину краше Соти не обрести было Вассиану места на земле. Огромными пространствами владел здесь глаз; они порождали пугающее желание подняться над ними и лететь » (187–188).
Однако не имеющий вечной жизни погибнет, а имеющий — вознесется. Помимо глагола лететь мотив воплощается через бинарную оппозицию верх/низ . Манящая мечта сопряжена с тематическими единицами, указывающими на верх:
« Возглавляет их шатровая колоколенка, видная из четырех волостей, строенная по собственной его, Вассиановой, причуде. Кружевные яруса легко взбегают вверх , а вверху развешаны колокола, басовитые деды со звонкими внучатами» (184).
При этом сам Вассиан стоит внизу, по-прежнему в миру, хотя и окруженный почестями и даже удостоенный снисхождения архангела. Возможность продвижения снизу вверх показана, следуя логике евангельского сюжета об искушениях, через включение в эпизод мотива изобилия: множество земель, лесов
(которые нужно вырубить для строительства палат и не только) даст герою изобилие власти и славы.
Интересно, что именно Вассиану, алчущему возвышения над прочими иноками, является бес-искуситель. Рассказчик подчеркивает, что происходит это как бы по заказу самого монаха, а не по дьявольскому наущению:
«…и скорбел сильно, что никогда не доводилось ему встретить беса и сразиться с ним» (186).
Однако автор ломает традиционную фабулу встречи святого с искушающим дьяволом — бес даже не пытается соблазнять Вассиана богатствами, властью, он просто смеется над его Геракловым трудом (Вассиан чистит выгребные ямы) и исчезает. Эта ситуация свидетельствует о том, что никакой борьбы уже не происходит, скит давно сдал позиции, и демону не нужно никого переманивать на свою сторону. Леонов, будучи приверженцем приема обыгрывания говорящих имен и фамилий, наделяет явившегося беса именем, которое мы не встретим ни в одном реестре, — Бумага. Бумага побеждает Священное Писание — материя побеждает дух, место скита займет коммунистическая стройка, дьявольское искушение сменяется атеизмом.
Итак, в романном творчестве Л. М. Леонова реализуются такие варианты мотива искушения, как искушение властью и гордыней. Как и в библейском первоисточнике, у писателя данные варианты сцеплены с мотивом полета и его противоположным по модальности вариантом — падением. Герои, сталкивающиеся с искушением, обладают особым социальным статусом, т. е. они воплощают основу основ и Закон: например, отец, правитель, священник и др. Несмотря на ряд художественных инноваций автора в обработке сюжетов Священного Писания, связь с первоисточником сохраняется, прочитывается и распознается знающим читателем через аллюзии, реминисценции, вариации на тему претекста [Гимранова: 59], становясь при этом проводником к одной из ключевых идей в леоновском творчестве — идее познания.
Список литературы Мотив искушения в творчестве Л. М. Леонова 1920-х годов
- Вахитова Т. М. Художественная картина мира в прозе Леонида Леонова: структура, поэтика, эволюция. СПб.: Наука, 2007. 317 с.
- Гимранова Ю. А. Методика интертекстуального анализа художественного произведения на филологическом факультете // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2019. № 3. С. 55–66. DOI:10.25588/CSPU.2019.66.57.004
- Донских О. А. Рефлексия над языком в историческом контексте [Электронный ресурс]. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000954/st002.shtml (28.06.2023).
- Задорина А. О. Мотив искушения в романистике Л. М. Леонова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. № 3. С. 12–16 [Электронный ресурс]. URL: https://philology-journal.ru/article/phil20200162/fulltext (28.06.2023). DOI: 10.30853/filnauki.2020.3.3 (а)
- Задорина А. О. Мотив искушения в романе Л. М. Леонова «Вор» // Вестник Томского государственного университета. Серия: Филология. 2020. № 68. С. 258–266 [Электронный ресурс]. URL: http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive&id=2041&article_id=46053 (28.06.2023). DOI: 10.17223/19986645/68/12 (b)
- Задорина А. О. Ева, Магдалина, самаритянка… (К типологии женских образов в романе Л. М. Леонова «Вор») // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2021. Т. 20. № 9. С. 108–116 [Электронный ресурс]. URL: https://nguhist.elpub.ru/jour/article/view/793 (28.06.2023). DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-9-108-116
- Коноваленко Ю. В. Концепт «искушение» в русской языковой картине мира (на материале анализа номинанта концепта в христианской и секулярной этике) // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 5 (96). С. 358–361 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-iskushenie-v-russkoy-yazykovoy-kartine-mira-na-materiale-analiza-nominanta-kontsepta-v-hristianskoy-i-sekulyarnoy-etike/viewer (13.06.2023).
- Леонова Н. Л. Притча о Калафате // Поэтика Леонида Леонова и художественная картина мира в ХХ веке. СПб.: Наука, 2002. С. 10–18.
- Отпущенников Ю. А. Тема искушений в соборном послании апостола Иакова // Актуальные вопросы церковной науки. 2022. № 1. С. 94–96.
- Путилов Б. Н. Веселовский и проблемы фольклорного мотива // Наследие Александра Веселовского: исследования и материалы. СПб., 1992. С. 74–85.
- Семенова С. Г. Романы Леонида Леонова 20–30-х годов в философском ракурсе // Век Леонида Леонова: проблемы творчества. Воспоминания. М.: ИМЛИ РАН, 2001. С. 23–57.
- Силантьев И. В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 296 c.
- Якимова Л. П. Вводный эпизод как структурный элемент художественной системы Леонида Леонова. Новосибирск: Изд-во Сибирского отд-я РАН, 2011. 250 с.