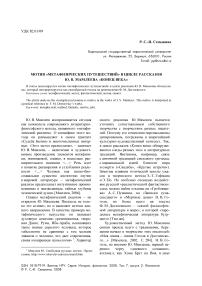Мотив «метафизических путешествий» в цикле рассказов Ю. В. Мамлеева «Конец века»
Автор: Семыкина Р. С.-И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется мотив «метафизических путешествий» в цикле рассказов Ю. В. Мамлеева «Конец века», который интерпретируется как своеобразный отклик на произведения Ф. М. Достоевского.
Метафизический, метод, фантастический, мотив, сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/14736954
IDR: 14736954 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Мотив «метафизических путешествий» в цикле рассказов Ю. В. Мамлеева «Конец века»
Ю. В. Мамлеев воспринимается сегодня как основатель современного литературнофилософского метода, названного «метафизический реализм». О специфике этого метода он размышляет в своем трактате «Судьба Бытия» и многочисленных интервью. «Этот метод предполагает, – замечает Ю. В. Мамлеев, – включение в художественное произведение элементов метафизики, понимаемой, однако, в несколько расширительном значении <…> Речь идет о попытке расширения и углубления реальности <…> Человек как психо-биосоциальное существо достаточно изучен в мировой литературе – метафизический реализм предполагает интуитивное проник-новениие в неизведанные, тайные глубины человеческой души» [Мамлеев, 2006].
Однако метафизический реализм – не открытие Ю. Мамлеева. Писатель не только это сознает, но и выясняет истоки данного направления. В качестве примера метафизического искусства он называет духовную алхимию средневековья, творения Данте, Руми, Ибн-Араби, показавших такое знание скрытого человека, которое «абсолютно не сравнимо с тем мелким знанием о человеке, что дает современная, самая изощренная психология» 1. Характер своего реализма Ю. Мамлеев пытается уточнить сопоставлением собственного творчества с творчеством разных писателей. Поэтому его сочинения перенасыщены цитированием, погружены в широчайший культурно-художественный контекст. Так, в цикле рассказов «Конец века» обнаруживаются следы разных эпох и литературных традиций. Явственна, например, связь с античной традицией смехового гротеска, с карнавальной идеей близости пира и смерти («Свадьба», «Крутые встречи»). Заметны влияния готической школы ужасов и творческого метода Э.-Т. Гофмана и Э. По. Но особенно очевидно воздействие русской «реалистической фантастики»: здесь можно найти отклики на «Гробовщика» А. С. Пушкина, на «Записки сумасшедшего» и «Мертвые души» Н. В. Гоголя, но более всего на тексты Ф. М. Достоевского – «самой философичной литературы в мире», в которой «зародилась метафизическая литература будущего» [Там же].
Художественный метод Ю. Мамлеева связан прежде всего с традициями, берущими начало в творчестве этих писателей: «Моя линия – линия Гоголя и Достоевского…» [Мамлеев, 2002. С. 284]. Н. В. Гоголь, по мнению Ю. Мамлеева, первый перешел черту «дневного сознания», взглянул, как Хома Брут на Вия, в лицо
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Р. С.-И. Семыкина, 2008
«душевной черноте» человека и, назвав своих персонажей «мертвыми душами», сделал прорыв в мир, выпавший из реального мирового духа; в этом выразился весь ужас писателя, заглянувшего в метафизическое закулисье. Достоевский «вызвал из глубин такие темы, которые на чисто человеческом уровне неразрешимы, и, чтобы шагнуть дальше (русский максимализм!), надо расстаться с представлениями о себе как об индивидуальном существе и перейти на другой уровень…» [Там же. С. 40]. Выломившийся же из системы эстетических кодов ХIХ в. реализм Ф. М. Достоевского, «доходящий до фантастического» («…что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности?» [Достоевский, 1981. Т. 22. С. 232]), без сомнения, предопределил художественно-философские позиции Ю. Мамлеева.
Еще М. Е. Салтыков-Щедрин отметил, что Достоевский «стоит у нас особняком», ибо проникает «…в область предвидений и предчувствий , которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества» [Салтыков-Щедрин, 1966. Т. 9. С. 42–43]. Именно в эту «область» предчувствий «скрытого, непонятного, хаотического, великого и бездонного» [Мамлеев, 2002. С. 268] стремится «проникнуть» художественный взор Ю. Мамлеева. И именно такое устремление определяет бытие его героев ‒ «метафизических путешественников».
Имя «величайшего русского метафизика» (по определению Н. Бердяева) Ф. М. Достоевского часто встречается в художественных, философских и публицистических произведениях Ю. Мамлеева. В его сочинениях легко отыскать многочисленные реминисценции, отсылающие читателя к текстам Достоевского («Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Сон смешного человека», «Бобок» и т. д.). То и дело мелькают у Мамлеева формулы Достоевского, вроде «тварь дрожащая» или «погрузиться в бездну». А вот начало рассказа «Люди могил» из цикла «Конец века»: «Человек я уже совершенно погибший, даже до исступления. Мира я не понимаю, Бога тоже…». Этот текст прямо указывает на «За- писки из подполья», начинающиеся словами: «Я человек больной <…> Я злой человек. Непривлекательный я человек…» [Достоевский, 1973. Т. 5. С. 99]. Но важны в данном случае не конкретные формулы и цитаты, важен сам принцип использования писателем сюжетных ходов, коллизий и особенно мотивов как важнейших форм выражения авторского сознания у Достоевского. Признавая свою зависимость от Достоевского, Мамлеев вместе с тем постоянно полемизирует с ним: переиначивает, деконструирует мотивы и ситуации его произведений.
В дополнение к замеченным нами ранее пересечениям и точкам схождения художественных миров Достоевского и Мамлеева [Семыкина, 2007] обозначим еще одно бесспорное «общее место» в поэтических системах Достоевского и Мамлеева – метафизические мотивы.
Главная метафизическая ситуация в их произведениях – человек, «не подчиненный пределу и норме», стремящийся к по стижению внутреннего и внешнего Космоса, бросающийся в Вечный круговорот метакосмического существования. Метафизический характер и принципиальная незавершимость такого рода «мистикофантастической» коллизии требуют использования пластичных, подвижных, выразительных художественных средств, каковыми и являются в произведениях Достоевского и Мамлеева определенные мотивы. Система мотивов – одна из важнейших форм выражения авторского сознания. Исследование функции мотива в различных контекстах открывает возможность определения сходства и различия эстетических принципов отдельных творческих индивидуальностей, что, в свою очередь, способствует описанию неявных смысловых соответствий в конкретных произведениях.
Можно типологически классифицировать сюжетные «модели» в цикле Ю. Мамлеева «Конец века», отражающие «текст» Достоевского, и выделить ряд сходных мотивов.
-
1. Мотив фантастических превращений, метаморфоз, совершающихся с людьми, мотив мистического озарения и преображения человека – своеобразная реакция на характерную для Достоевского и сквозную для русской классики вообще идею духовного
-
2. Мотив жизни после смерти, оживления покойников, возвращения к живущим – многократно откликнувшаяся в рассказах Мамлеева ситуация новеллы Достоевского «Бобок» (рассказы «Свадьба», «Живое кладбище», «Люди могил», «Происшествие», «О чудесном»).
-
3. Мотив метафизических путешествий – трансформация сюжета Достоевского о «духовном скитальчестве» русского человека («Бегун», «Дорога в бездну», «Трое», «Простой человек»).
-
4. Мотив встречи с метафизическими существами, ведающими, подобно старцам Достоевского, правду о запредельном, вестниками миров иных («Валюта», «Крутые встречи», «Люди могил», «Случай в могиле»).
-
5. Мотив испытания веры («Крутые встречи», «Коля Фа», «О чудесном»).
-
6. Мотив духовного экспериментаторства – опыты над собой с целью понять свою природу («Бегун», «Дорога в бездну», «Черное зеркало»).
возрождения человека («Удалой», «Вечерние думы», «Случай в могиле», «Простой человек», «Черное зеркало» и др.).
Отметим и повторяющиеся символические образы Достоевского, взятые Мамлеевым на «вооружение»: образы Бездны, «живого кладбища», великих старичков, мудрствующих младенцев и подростков, в особенности образ худенькой девочки с взглядом, выражающим бесконечную любовь к людям, воспринимаемой как символ России.
В настоящей работе мы остановимся на одном из перечисленных мотивов – мотиве метафизических путешествий. В произведениях Ю. Мамлеева особую роль играют многочисленные утопические и антиутопиче-ские сюжеты космических путешествий и знакомства с жителями неведомых сфер бытия. Сюжетные вариации этих путешествий также представляют своеобразные отклики на мотивы русских классиков и, прежде всего, Ф. М. Достоевского. Герои рассказов «Бездна», «Бегун», «Люди могил», «Дорога в бездну», «О чудесном» ассоциируются с персонажами «фантастического» рассказа «Сон смешного человека», с сюжетами на «космическую» тему, которые всплывают в разговоре черта с Иваном Карамазовым, а также в сне Версилова.
Так, рассказ Ю. Мамлеева «Бегун» может быть рассмотрен как отклик на утопию «золотого века», изображенного Ф. Досто- евским в рассказе «Сон смешного человека». В произведении Достоевского «смешной человек», искавший «совершенного небытия», оказался на прекрасной звезде (являющейся двойником планеты Земля). Дети этой счастливой, «не оскверненной грехопадением» планеты «жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем <…> Они не желали ничего и были спокойны; они не стремились к познанию жизни, так, как мы стремились сознать ее, потому что жизнь их была восполнена <…> Они были резвы и веселы, как дети <…> них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть, но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благославляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видел, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию» [Достоевский, 1983. Т. 25. С. 112–114]. У Достоевского элементы сверхреального проступают в снах, кошмарах, грезах и фантазиях его героев. И в данном произведении сюжет фантастического путешествия привиделся «смешному человеку» во сне.
У Мамлеева все шаги в фантасмагорический мир реалистически обусловлены. Так, например, способность Васи Куролесова облететь всю Вселенную, видимую и невидимую, – это способность его воображения, следствие (симптом) психической болезни человека, пытавшегося «выскочить из самого себя» и надорвавшегося. Основная часть рассказа представляет своеобразные «записки сумасшедшего», разделенные на две части, соответствующие двум фазам заболевания и двум вариантам фантазирования: первая часть – «Запиcи Васи Куролесова (В тот период, когда он бегал, как бы скидывая свое тело)», вторая – «Записи Васи Куролесова после того, как Заморышева отметила, что он сам стал “потусторонним чудовищем”». В соответствии с литературной традицией в образе Васи Куролесова представлен вариант «мудрого безумца»
(как, например, Поприщин в «Записках сумасшедшего» Гоголя). Одержимый маниакальным психозом, Вася не только не теряет способности острого и меткого наблюдения, он также склонен к анализу и к оценке увиденного им. В отличие, например, от постмодернистов, Мамлеева занимает не психопатология, а художественная условность, как у Достоевского, «средство показа крайних, скрытых сторон человеческой души, трагедии бытия, исканий метафизически неизвестного» [Мамлеев, 2006].
Описание одного из пластов Вселенной, в который заглянул Вася Куролесов, представляет, на наш взгляд, пародийную реплику на утопию Достоевского: «Время-то у них, матушка-покойница, длится не как у нас, а медленно-медленно, и живут они, паразиты, до нескончаемости, по нашему если считать, по-глупому, то миллионы и миллионы лет. Все такие блаженные, самодовольные, боги, одним словом, тела из тончайшей субстанции <...> И чего они нашли хорошего в этой бесконечной своей радости и блаженстве? Одна тупость и никакой Бездны. Сиди себе и радуйся миллионы лет. У нас бы все с ума посходили от таких надежд» [Мамлеев, 2002. С. 112]. Впрочем, критически отнесся Вася и к преисподней, и демонов он оценил, исходя из человеческого опыта и высших человеческих потребностей: «Демоны <_> еще хуже небожителей. Сволочи. Только под себя работают. Но в основном: они Главного боятся. А Главного бояться, значит Бездну не знать, значит, самое глубинное мимо себя пропустить. Те, небожители, особенно которые повыше, вьются вокруг Главного по глупости, дескать, и мы в Свету, а самой великой тайны не знают, а эти, демоны, трясутся при мысли о Духе Главного, думают, что исчезнут при ем. Боятся!» [Там же. С. 112-113].
Устремленность самого Васи к Бездне, даже после выхода в «Абсолютное», к Богу -это, по мысли писателя, проявление русской ментальности, космологическая функция которой состоит в том, чтобы быть посредницей между «Абсолютом» и «Запредельной Бездной». В такой трактовке Россия -это уже не одна шестая земного шара, а нечто несравненно большее, и Вася это сознает: «И Русь-то, кстати, есть не только на нашей грешной Земле» [Там же. С. 113]. В чем суть этого замечания?
В некоторых интервью и в книге «Новый град Китеж», которую Ю. Мамлеев написал совместно с Т. Горичевой, представлена концепция так называемой «космологической России». Согласно данной концепции, «то, что лежит в основе исторической России, выходит за пределы нашего земного мира и является одной из глубочайших тайн отношений между Богом и Космосом <...> Наша историческая Россия - это одна из многочисленных вариаций Космологической или Метафизической России, которая может проявляться, реализовываться не только на нашей планете (в исторической “земной” России), но и на других сферах и уровнях Космоса, видимого и невидимого: на других планетах, в другом временнопространственном мире. Следовательно, во вселенной должны существовать аналоги “земной” России. Это решительный прорыв в исследовании русской идеи, потому что и Бердяев, и самые крайние славянофилы -все они связывали Россию с идеей человечества» [Мамлеев, 2006]. Идея России выходит за пределы нашего земного мира и за пределы человеческого - а если это так, то неизбежно она проявится в других мирах» [Там же]. Так сюжет о метафизическом путешествии и побеге в Вечность «мудрого безумца» приоткрывает авторский миф о Космологической России.
Но русские силы, в представлении Мамлеева, устремляются к Внереальности, выходят за пределы Абсолюта, к метафизической Бездне. Вася Куролесов в рассказе «Бездна» признается: «Из Вселенной я вроде вышел в неописуемое, в Божественное, в Абсолютное - все на месте, как надо, Бог есть Бог - и все равно, даже после этого я все бегу и бегу! Куда же мне теперь-то бежать, после Божественного? <...> Ухожу я, Господи, или к тебе, вовнутрь, в себя, или в такую даль, что ее и никаким знаком не обозначишь, никакой пустотой не выразишь» [Мамлеев, 2002. С. 122]. Это одна из основных метафизических коллизий в произведениях Мамлеева. Писатель выдвигает предположение о хаосе и тьме в душе современного человека, которого не всегда способен просветить и свет Божественной любви, так как сегодня человек, даже признавая Бога, пытается идти «дальше», оказываясь на «распутье» между Богом и Бездной.
У Мамлеева можно выделить четыре сюжетных мотива в рассказах о таком «путешествии»:
- мотив ухода, бегства, полета в беспредельное Вечное, Потустороннее («Бегун», «Дорога в бездну», «О чудесном»);
- мотив открытия Высшего «Я» в себе («Дорога в бездну», «Черное зеркало»);
- мотив готовности к Великому Переходу: границы между жизнью и смертью («Жу-жу-жу», «Коля Фа», «Простой человек»);
- мотив поиска тайн человеческого бытия в могилах, в земной бездне - Первоначале жизни на земле («Люди могил», «Случай в могиле», «Дикая история»).
Чтобы заглянуть, «просочиться» в Иное, встретиться с Другим, Неописуемым или понять себя, герои Мамлеева занимаются духовными и телесными практиками, как, например, Андрей в рассказе «Дорога в Бездну», который уверен, что «не нужно никуда стремиться и бежать в потустороннее, как на луну, - главное, вечное, бессмертное рядом и внутри тебя (оно есть ты)» [Мамлеев, 2002. С. 133]. Сергей Еремеев в рассказе «Дорога в бездну», зараженный мировой тоской, почувствовав, что «душа его последнее время уходит в какую-то пропасть», выбирает для себя не предлагаемый Андреем путь особой медитации и проникновения в Божественную Бездну внутри себя, а, как и Вася Куролесов, бегство в метафизическое. «Он все больше и больше называл себя «метафизическим путешественником», загробным летуном». Но умирать не собирался и от сумасшествия берегся. Его мистическое путешествие автор не показал, оно сводится лишь к сборам в дорогу к Бездне, к тому, что Сергей все чаще слышит «зовы» - оттуда, убежден, что это не галлюцинация, не проекция собственного подсознания, а знаки «Потустороннего Ума», «Иной Реальности». Сергей воспринимает их как вызов и вместе с тем как открытие в себе чего-то тайного, великого, непостижимого и в то же время родного, вечно русского.
Сознанием, которым наделен Сергей Еремеев, обладают немногие и, прежде всего, люди абсолютно бескорыстные. И путь к своей Божественной сути возможен лишь для таких же людей, а отнюдь не для всякого делового современного человека. В рассказе «Черное зеркало» изображен один из бедствующих нью-йоркских эмигрантов Семен
Ильич, который уже несколько раз «почти умирал» из-за безденежья и «отсутствия божества». Он пытается «проложить» путь к внутреннему «Я», увидеть и угадать уготованную ему судьбу в огромном черном зеркале, висевшем посреди комнаты, в котором пока еще «ничего не отражалось». «Я хочу познать только одно: кто есть я? Кем я буду после смерти? Кто встретит меня там?» - вопрошал Семен Ильич у черного зеркала. Но черное зеркало не отвечало ему. В нем он не видел своего отражения - скорее, последней тайны, которую он надеялся увидеть на дне своей высшей тени» [Там же. С. 165]. И, наконец, свершилось. В черном зеркале «тьма отошла, исчезла. Он явственно увидел бесконечную чистоту своего зеркала и какую-то страшную картину в ней, а не чье-либо отражение. Это был убийственно-бездонный странный пейзаж, такого в окружающей реальности вовсе не существовало <...> Зиял жуткий провал, словно в иное пространство <...> а посреди существа, все время изменяющиеся, точно у них не было определенной формы...» [Там же. С. 167]. Зеркало стало выдавать сначала всевозможных чудовищ-уродов, двуносых, многоголовых, многоруких - символов дикой брутальности, животного существования, а потом в нем появился верещавший без умолку о выборах, о политике некий Джон. «Единственное, чему он покорился, - это доллары. Больше во всем мире он ничего не признавал, даже не верил в существование чего-то иного на Земле. Эдакий был монотеист» [Там же. С. 170]. Этот Джон и был проекцией собственного «Я» Семена Ильича. Значительнее него он ничего открыть в себе не мог, так как, по существу, не имел Бога в душе, оттого и вынужден был констатировать, что «сущность его глубинного “Я” так же непознаваема, как это черное зеркало, и бездонная, уводящая в заабсолютное, невидимая глубина этого зеркала - лишь проекция его собственного “Я”» [Там же. С. 173].
Таким образом, определить рассмотренные нами сюжеты сходных по проблематике произведений цикла «Конец века» словами «космическое путешествие» будет не совсем точно, так как речь в них идет о путешествии не космическом, а трансцендентном, не о дороге в космос, в галактику, во Вселенную, а о пути к сверхреальному, пути в бездну внешнюю - за пределы всего известного и мыслимого, и в бездну внутреннюю - в тайны души человеческой. Система этих мотивов и образует оригинальную художественную космомифологию писателя-метафизика.