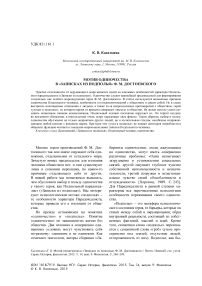Мотив одиночества в "Записках из подполья" Ф. М. Достоевского
Автор: Касаткина Ксения Вадимовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Чувство отделенности от окружающего мира является одной из ключевых особенностей характера Подпольного парадоксалиста («Записки из подполья»). Одиночество служит важнейшей предпосылкой для формирования «подполья» как особого мироощущения героя Ф. М. Достоевского. В статье исследуются возможные причины одиночества Подпольного человека, особенности его взаимоотношений с обществом и самим собой. Не в силах выстроить полноценные отношения с людьми, а также из-за непреодолимых противоречий с обществом, герой «уходит в подполье», из которого время от времени совершает «выход» в общество. Не желая (или не умея) следовать неписаным законам коммуникации, Подпольный человек постоянно нарушает их. Он терпит неудачу во внезапном сближении, а впоследствии очень остро переживает свое фиаско. Таким образом, выбор в пользу одиночества обусловлен не только неприятием других людей, но и мучительным стыдом, неизбежно сопровождающим любой контакт с внешним миром. При всем том «уход в подполье» не лишает антигероя потребности в общении: функцию контакта с внешним миром выполняют записки Подпольного человека.
Достоевский, "записки из подполья", подпольный человек, одиночество
Короткий адрес: https://sciup.org/147219455
IDR: 147219455 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Мотив одиночества в "Записках из подполья" Ф. М. Достоевского
Многие герои произведений Ф. М. Достоевского так или иначе ощущают себя одинокими, отделенными от остального мира. Зачастую явных предпосылок для изгнания человека обществом нет, и они существуют лишь в сознании персонажа, по каким-то причинам отделяющего себя от других. В нашей работе мы попытаемся выяснить, чем обусловлен выбор в пользу одиночества у такого героя, как Подпольный парадоксалист («Записки из подполья»). Нас интересуют психологические истоки «подполья» – те особенности характера Парадоксалиста, которые привели его к изоляции от общества.
Но прежде остановимся на понятиях «одиночество» и «подполье». Понятие «одиночество» не эквивалентно жизни без общества. Два человека в совершенно одинаковых условиях могут чувствовать себя по-разному: одиноким и не одиноким. Как отмечают психологи, авторы сборника «Ла- биринты одиночества», люди, жалующиеся на одиночество, могут иметь совершенно различные проблемы: «Один испытывает затруднение в установлении социальных связей, другой ощущает глубокое чувство собственной неполноценности и незначительности, третий погружен в экзистенциальное чувство своей обособленности и отчужденности» [Хоровиц, 1989. С. 243]. Для Парадоксалиста в равной степени характерны все перечисленные психологами особенности переживания своего одиночества.
«Подполье» – это метафора психологического состояния героя, те барьеры, которые он ставит между собой и окружающими; образ внутренней реальности, состоящей из собственных фантазий, мыслей и идей. Кроме того, семантика слова «подполье» пересекается с семантикой слова «гроб » (узкое пространство под землей, отсутствие людей, отгороженность от них). Подполье, как бы-
Касаткина К. В. Мотив одиночества в «Записках из подполья» Ф. М. Достоевского // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 246–249.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология
ло сказано, противопоставлено внешнему, «верхнему» миру; гроб же связан с миром смерти, который противоположен миру живых. Но в семантике гроба и подполья есть и важное различие: смерть навсегда отделяет человека от мира живых, крышка гроба – это непреодолимая стена между человеком и обществом, а вот подполье не несет в себе семантики необратимости: дверь погреба всегда можно открыть («выйти из подполья»). Таким образом, уйти в подполье означает сознательно и, возможно, временно затаиться, выжидая какого-то удобного момента или благоприятной ситуации для выхода.
Так что же именно «загоняет» человека в «подполье»? Почему он делает сознательный выбор в пользу одиночества?
Во-первых, отчуждение Подпольного человека связано с тем, что люди не оправдывают его притязаний на исключительность и отказываются играть по тем правилам, которые пытается определить для них герой (например, Зверков и компания – приятели героя – вовсе не стремятся поддержать благородный порыв Парадоксалиста к сближению). Подпольный человек, желая того или нет, нарушает неписаные законы коммуникации, делая последнюю невозможной. Неумение (или нежелание) Парадоксалиста следовать этим законам отмечает А. Б. Криницын: «В силу своей асоциальности, герой ощущает себя настолько оторванным от других, что оказывается совершенно неспособным общаться и правильно выстраивать разговор, добиваясь постепенного сближения. Вместо этого он пытается преодолеть пропасть, которую ощущают между собой и другими, одним головокружительным прыжком – полным откровением» [2001. С. 137–138].
Подобные коммуникативные неудачи приводят Парадоксалиста к разочарованию в людях и к обиде на них и, как следствие, гордому удалению в «подполье», что, впрочем, не мешает герою время от времени делать «вылазки» наружу, пытаться сблизиться с людьми, что, как правило, заканчивается крахом и еще большим погружением в «подполье».
Во-вторых, невозможность полноценного общения у Подпольного человека всегда связана с чувством стыда. Швейцарский ученый-психолог Марио Якоби в своей книге «Стыд и истоки самоуважения» пишет об этом: «Общеизвестно, что способность человека доверять или не доверять другим вытекает из его истории детства. Слишком много детей, травмированных стыдом, строят толстую защитную стену недоверия вокруг себя. Всю свою жизнь они избегают во что бы то ни стало повторения того ужасного чувства боли и унижения, которые они испытали детьми» [2001. С. 175].
Нам мало что известно о детстве Парадоксалиста, но и того, что мы знаем, уже достаточно, чтобы понять, что налицо все факторы, которые в будущем сформируют человека недоверчивого, подозрительного, закрытого. Вот что герой пишет о своем детстве: «Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия, – сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося» [Достоевский, 1972. С. 139] 1. Этих нескольких штрихов уже достаточно, чтобы составить себе представление о детстве Подпольного человека. То обстоятельство, что он, «сиротливый», был отдан в школу «дальними родственниками», и упоминание о попреках наводят читателя на мысль, что Парадоксалист рано лишился родительской заботы – возможно, оказался сиротой. К тому же, на протяжении всей повести ни словом не упомянуто о родителях – может быть, герой их вообще не помнит? Мальчик был «забит попреками» и, видимо, вследствие этого уже тогда был «молчаливым» и «дико на все озирающимся». Всего одно слово – «сунули» в школу – рождает образ никому не нужного ребенка, от которого хотят поскорее избавиться и делают это при первой же возможности.
Разумеется, соученики не могут и не желают понять трагедию детства Парадоксалиста. Перед ними «забитый», «молчаливый» и «дико на все озирающийся» сверстник. Их реакция вполне предсказуема: «Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож <…> Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой...» (С. 139).
Поскольку способность к рефлексии у Подпольного человека проявилась в очень раннем возрасте – еще до школы (уже тогда он, по собственному признанию, был «задумывающимся» ребенком), он принимал насмешки своих не слишком развитых товарищей очень близко к сердцу. Это привело к тому, что ребенок сразу «заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость» (так начало формироваться «подполье» в душе юного антигероя). Сначала юноша возненавидел одноклассников за их насмешки, а по мере наблюдения над ними к чувству неприятия добавилось еще и безграничное презрение: «Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя» (С. 139).
Будучи еще юным, Парадоксалист не отказывается от общества окончательно (что произошло с ним в более зрелом возрасте) – пока только формирующееся «подполье» имеет связи с внешним миром. Герой предпринимает попытки сблизиться с окружающими. Он и сам признает, что чувствовал сильную потребность в общении: «То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски» (С. 125). Однако подобная дружба, по признанию самого антигероя, ни разу не выдержала проверки временем.
Интересно, что одиночество Подпольного человека, при всей его мизантропии, несколько иного рода, чем байроническая отчужденность того же Раскольникова или Ставрогина: последних не слишком волнует, что подумают о них люди, они испытывают искреннее и абсолютно сознательное отстранение от общества. Парадоксалист же в своем одиночестве беспрестанно оглядывается на людей. Его настолько беспокоит возможное осуждение общества, что это порой превращается в навязчивую, параноидальную идею: герою чудится, будто все взгляды обращены на него, что люди только и думают о его промахах и осечках, словно сотни глаз начинают неотступно следить за ним, стоит ему лишь высунуться из своего «подполья»: «В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но – все казалось мне и это – будто бы смотрели на меня с каким-то омерзением. Мне приходило в голову: отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением?» (С. 124).
Довольно сложно представить себе фантазирующего на подобную тему Раскольникова (при всей его склонности к самокопанию), ведь цель его «пробы» – доказать свое превосходство себе самому, в то время как Парадоксалист жаждет признания своей исключительности со стороны общества. В этом ключ к пониманию разницы «одино-честв» двух персонажей: внутренний конфликт Раскольникова никак не связан с изолированностью героя от общества, а следовательно, одиночество не доставляет герою особенных страданий; внутренний конфликт Парадоксалиста напрямую зависит от отношений с другими людьми, а значит, вынужденный выбор в пользу одиночества для Подпольного человека болезнен и мучителен.
Положение Парадоксалиста осложняется «усиленным сознанием»: героя до исступления мучает вопрос о том, почему же он так нуждается в людях, которых до такой степени ненавидит и презирает? В этом и коренится основной «парадокс»: Подпольный одновременно любит и ненавидит людей, стремится к ним и их же отталкивает, восхищается и презирает, страдает от одиночества, но, пребывая в обществе, страдает еще сильнее. Внутренне Парадоксалист понимает, что невозможно получить желаемую любовь, не изменив самому себе и не предав собственных убеждений, однако продолжает попытки «завоевания мира», заранее обреченные на провал.
Необходимо отметить, что к моменту написания своих записок герой оставляет попытки социализации, окончательно замыкаясь в «подполье». Однако стоит ли рассматривать его исповедь как (возможно, последнее) желание найти контакт с обществом, или Парадоксалист «сближается» с Раскольниковым, меняя адресата своих доказательств с внешнего на внутреннего, тем самым замыкая круг общения на самом себе?
Отгородившись от общества окончательно, укоренившись в «подполье», герой продолжает нуждаться в собеседнике. Его записки восполняют недостаток общения, служат мостиком во внешний мир, отсюда и диалогизм и полемичность слова Подполь- ного человека, отмечавшиеся М. М. Бахтиным. Присутствие «другого», его влияние на текст, порождаемый рассказчиком, очень ощутимо: при разрыве физического контакта с людьми «другой», продолжая существовать в сознании Подпольного человека, остается психологически значимым для него. Как доказывает М. М. Бахтин, навязчивым стремлением предвосхитить чужую оценку, тем самым сохранив за собой право на последнее слово, Подпольный человек «показывает свою зависимость от чужого сознания, свою неспособность успокоиться на собственном самоопределении» [2002. С. 256].
Таким образом, Подпольный человек, отгородившись от мира, продолжает находиться в зависимости от «другого», сокрытого внутри себя самого. Герой сам вначале заявляет, что не собирается публиковать свои записки и пишет их для себя, однако все его сочинение представляет собой либо бесконечные оправдания, либо яростные возражения мнимым собеседникам. Но эти собеседники (поскольку записки создаются для самого себя) находятся «внутри» Подпольного человека. Они – его судьи, и судьи не благожелательные, и даже не беспристрастные, а насмешливые, презирающие Парадоксалиста и даже (любопытный факт!) не имеющие, как полагает антигерой, достаточно свободного времени, чтобы выслушивать его разглагольствования. Парадоксалист не может принять себя или позволить себе быть таким, каков он есть. Если судьи́ извне не находится, Подпольный человек начинает сам выступать в роли судьи, и таким образом, никогда не может остаться один, наедине со своими мыслями и чувствами. Его существование замкнуто в бесконечной рефлексии, которая строится как диалог с «другим». От присутствия этого внутреннего судьи герою некуда деться, поэтому он вынужден заниматься постоянным объяснением своих поступков и мыслей – бесконечно оправдываться в своем существовании.
Итак, можно сделать вывод: одиночество, являясь осознанным выбором Подпольного человека, тем не менее, временами тяготит его не меньше, чем мучительные взаимоотношения с окружающими. Жизнь Парадоксалиста протекает в бесконечном диалоге с враждебно настроенным, насмешливым «другим», находящимся в сознании героя, и сводится к скрытым и явным попыткам оправдать себя.
Список литературы Мотив одиночества в "Записках из подполья" Ф. М. Достоевского
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского//Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Русские словари, 2002. Т. 6. 799 с.
- Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека: к антропологии Ф. М. Достоевского. М.: МАКС Пресс, 2001. 372 с.
- Хоровиц Л. М., Френч Р. С., Крейг А. А. Прототип одинокой личности//Лабиринты одиночества: Пер. с англ./Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. М.: Прогресс, 1989. С. 243-274.
- Якоби М. Стыд и истоки самоуважения. М.: Институт аналитической психологии, 2001. 249 с.