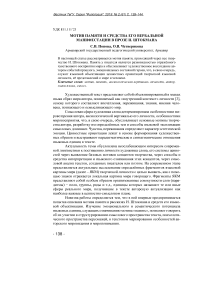Мотив памяти и средства его вербальной манифестации в прозе И. Штокмана
Автор: Попова Светлана Валентиновна, Четверикова Ольга Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье рассматривается мотив памяти, проходящий через все творчество И. Штокмана. Память у писателя является разновидностью отражённого чувственного восприятия мира и обусловливает художественное воссоздание автором событий прошлого, эмоциональных состояний героев, что, в свою очередь, служит языковой объективации ценностных ориентаций творческой языковой личности, её представлений о мире и человеке.
Мотив, память, аксиологическая вертикаль личности, автор, знаки языка, смысл
Короткий адрес: https://sciup.org/146281433
IDR: 146281433 | УДК: 811.111’23
Текст научной статьи Мотив памяти и средства его вербальной манифестации в прозе И. Штокмана
Художественный текст представляет собой объективированный в знаках языка образ мира автора, понимаемый как «внутренний контекст» личности [3], основу которого составляют впечатления, переживания, знания, мнения человека, познающего и осмысливающего мир.
Смысловая сфера художника слова детерминирована особенностями мировоззрения автора, аксиологической вертикалью его личности, особенностями мировосприятия, что, в свою очередь, обусловливает основные мотивы творчества автора, разработку им определённых тем и способы языковой экспликации смысловых доминант. Чувства, переживания определяют характер эстетической эмоции. Ценностные ориентации лежат в основе формирования художественных образов и выстраивают парадигматические и синтагматические отношения языковых единиц в тексте.
Актуальность темы обусловлена неослабевающим интересом современной лингвистики к постижению личности художника слова, его системы ценностей через выявление базовых мотивов концептов творчества, через способы и средства интерпретации и языкового означивания этих концептов, через смысловой анализ текстов, созданных писателем или поэтом. На современном этапе представляется актуальным исследование определённых фрагментов языковой картины мира (далее – ЯКМ) творческой личности с целью выявить, как с помощью знаков отражается локальная картина мира говорящего. Фрагменты ЯКМ представляют собой особым образом организованные совокупности слов (парадигмы) - поля, группы, ряды и т.д., единицы которых называют те или иные сферы реального мира, получившие в тексте авторскую актуализацию как наиболее важные в ценностно-смысловом плане.
Новизна работы определяется тем, что в ней впервые предпринимается попытка описания мотива памяти в рассказах И. Штокмана и средств его языковой объективации. Изучение эмоционального и семантического потенциала языковых единиц, служащих означиванию мотива «память», позволяет говорить об их участии в структурировании смыслового пространства текста, психологического пространства персонажей, в текстовом маркировании особенностей авторского мировидения и миропонимания.
Интерес филологов к особенностям восприятия мира художником слова как способу интерпретации им реальной действительности обусловлен антропоцентрическим подходом, поставившим «во главу угла» изучение и описание процессов, протекающих в сознании познающего мир человека, который в эстетически направленной речевой деятельности объективирует результаты этого познания в знаках языка [1; 7; 8; 12]. Слово в художественном тексте характеризуется: субъективной оценочностью, контекстуальной мотивированностью, обусловленностью речевой ситуацией, временным ассоциированием, рефлективностью. «СЛОВО запускает механизмы ассоциирования, узнавания и категоризации» [6: 210]. Следует учитывать и экстралингвистические параметры текста – историко-временные, социально-культурные, психологические, связанные с личностью говорящего, ибо все это детерминирует смысловые и ассоциативные связи слова текста, актуализирующие аксиологическую вертикаль сознания автора и обусловливающие личностные читательские проекции текста, т.е. успешность движения читателя по «лестнице смыслов» [13].
Современные теории языка во многом предстают как теории языковой когниции, рассматривающие сложные проблемы, включающие «хранение, приобретение и использование языковых знаний, преобразование и освоение человеком внешнего и внутреннего духовного миров» [2: 146]. Язык - одна из когнитивных структур, к которым относятся восприятие, мышление, память и действие. Все когнитивные структуры неразрывно связаны между собой, так как «работают» на усвоение, переработку и трансформацию знания. При этом субъект восприятия является активным компонентом взаимодействия со средой. Акценты, таким образом, смещаются с процессов получения информации на процессы её организации и использования [14; 15].
Известно, что человек воспринимает окружающий мир с помощью пяти органов чувств, что даёт основание различать следующие виды чувственного восприятия: зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое, тактильное. Каждый из этих чувственных каналов получения информации откладывает в памяти человека свой вид опыта, свою ассоциацию, связанную с той или иной реалией действительности. При этом образование перцептивного образа происходит на основе: а) эмпирического опыта личности (опыт общих чувственных впечатлений); б) когнитивного опыта, связанного с переработкой информации, её понятийным обобщением; в) собственно языкового образно-метафорического опыта личности, когда язык используется в качестве информационно-знаковой системы, включающей и эмоциональную сферу наблюдателя, и его ценностные ориентиры. В художественной речи мотивы, коммуникативные задачи автора формируют смысловую структуру текста, а уникальность системы его отношений с миром обусловливает наличие оригинальной системы смысловых образований и актуальных личностных смыслов говорящего, находящих свое материальное воплощение в знаках языка, избираемых художником слова и эксплицирующих не только аспекты его видения реалий действительности, но и то, что помнится, вспоминается. Д.С. Лихачев писал: «Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти чрезвычайно важно. Принято элементарно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память – преодоление времени, преодоление смерти» [5: 160–161].
События внешнего мира, внутренние состояния человека, откладывающиеся в памяти, переживаются как сиюминутные, а в воспоминании как длящиеся. Память являет собой и запоминание, и воспроизведение, и хранение информации, знаний. В описании конкретных картин, представляющих определённое событие, проявляется процессуальность памяти. Память в структурном выражении предстаёт как некое эмоциональное состояние, атмосфера. Е.С. Кубрякова справедливо отмечает: «в русской поэзии слова в цепочке память - душа - жизнь связаны между собой так тесно, что сама память персонифицируется, выступает как нечто живое, которое может заговорить» [4: 90].
Изучение мотива памяти в текстах И. Штокмана позволяет говорить о типологической сложности феномена «память», многоликости авторских воспоминаний, построенных по принципу контраста и ассоциации. Для писателя характерно не просто воспоминание, а постоянное припоминание событий и фактов прошлого, непрерывное уточнение деталей. При этом чувственное восприятие действительности является основой художественной образности, поэтому и воспоминания в рассказах формируются И. Штокманом прежде всего как зрительные, обонятельные, слуховые, осязательные, реже - вкусовые: Очередной тихий московский летний вечер вплывает на мягких крыльях в наш двор. Плавится, медленно растворяясь в медленно темнеющей синеве неба, полоска заката над трансформаторной будкой в углу двора. Я лежу на ее тёплой битумной крыше, отделённый от всего, что внизу. Звуки двора доходят до меня приглушённо, а вот запахи, поднимающиеся с потоками тёплого воздуха, ощущаются очень отчётливо. Пахнет городской пылью, влажной землёй (двор только что полили из шланга), зеленью газонов, чуть горьковато тополиной листвой и сладко, душно - левкоями и маттиолой от разбитой нами клумбы («Колдовство вечеров»).
Память у И. Штокмана функционирует как сюжетообразующий мотив и выполняет функции достоверной передачи реалий, восстановления подробностей прошлого. В рассказах писателя мотив памяти проявляется через такие «механизмы» процессов памяти, как: а) воспоминание; б) припоминание; в) забывание. Языковыми экспликаторами данного мотива у писателя выступают: а) ментальный предикат «помню», который часто имеет при себе распространитель, характеризующий степень яркости, последовательности и достоверности воспоминаний; предикаты «вспоминается», «сколько помню», «было»; б) номинации «душа», «сердце», «тяга» служат объективации психологического пространства говорящего: Ах, какое это было лето , какое чувство свободы, счастья переполняло меня!.. Все казалось возможным, доступным, и жизнь открывалась и ждала нетерпеливо, такая долгая, нескончаемая — конца не видать («Гитара»); Сердце помнит их, бережет в своей глубине, сохраняя все, что связано с теми местами. Особенно, если прошли там детство, отрочество, ранняя юность твоя... У каждого есть такие места на земле, никто здесь не обделен, и с годами память о них, тяга к ним делаются отчего-то все острее, все сильнее («Все это было здесь»).
Денотативное пространство лексики, означивающей мотив памяти, перерастает в пространство эмоциональное, связанное с переживаниями персонажа, его реакций на увиденное, воспоминаниями о прошлом, личностными ассоциациями. Память, таким образом, является эмоциогенным объектом, а комбинация ощущений и эмоционального состояния героя в воспроизводимой памятью ситуации создаёт иллюзию реальности: Ранние зимние сумерки сгущались, наливались густой синевой, и дом ждал тебя, большой, шестиэтажный, уплывая в надвигающуюся ночь, точно корабль, светившийся желтой уютной теплотой зажженных уж окон... («Все это было здесь...»); Сколько помню себя, самыми любимыми праздниками были Новый год и Первое мая… В них чувствовалась рубежность, не хронологическая, а внутренняя - оба заставляли душу качнуться и отплыть словно бы в новый путь («Праздники»).
Одним из приёмов экспликации воспоминаний у И. Штокмана является сочетание событий прошлого и настоящего, неожиданные сопоставления, создающие новые коннотации и сюжетные связи. Писатель использует приём контраста, актуализирующий оппозицию «тогда - сейчас (теперь)»; «был - нет»: Чу-довка была горбата, мощена булыжником, круглым, гладким, и по ней тогда ходил трамвай. Был там сквер с редкими металлическими столбами - оградой, к ней вел крутой спуск, и зимой там раскатывались ледянки, черные, аспидно и жирно блестя-щие… <…> Теперь нет ни сквера , ни ограды его, нет трамвайной линии, булыжника, и несутся по Комсомольскому проспекту через новый виадук машины, нескончаемый их поток, от бывшей Метростроевской к Лужникам и обратно («Всё это было здесь…»); Теплый переулок, потеряв всю домашнюю уютность прежнего имени, называется теперь улицей Тимура Фрунзе, и выходит она к Фрунзенской набережной. Она сейчас в граните, чинная, строгая, а в раннем детстве моем там был рыжий глинистый берег в косогорах... («Всё это было здесь...»).
Таким образом, воспоминание у И. Штокмана не только воссоздаёт картину, некогда виденную говорящим, но и актуализирует культурно-исторический контекст описываемой ситуации.
Герой И. Штокмана в рассказе «Парк зимой и летом» вспоминает свои юношеские годы, когда он вместе с товарищами всё своё свободное время проводил в Парке Горького. Использование в речевой сфере говорящего глаголов в форме 2-го лица единственного числа моделирует ситуацию внутреннего монолога, в форме которого происходит обращение к Я-состоянию с помощью формы Ты. Автор обращается и к Я-внутреннему, и в своём лице - к тому, кто переживал что-то подобное. Данные глагольные формы служат в рассказе «не столько означиванию имплицитного Я-адресата, сколько приобщению внутреннего ‘я’ <^> к миру других ‘я’» [11: 84-85].
Описываемые события представляют собой совокупность определённых когнитивных ситуаций, раскрывающих замысел автора и означенных лексемами «парк», «зимой», «летом». Дорога к парку - своеобразный переход из обычной, будничной обстановки в мир радости и мальчишеского счастья - парк, что означено в тексте номинацией «мост»: Все мы, пацаны и девчонки с Зубовского бульвара, окрестных дворов его, считали Парк Горького почти что своей собственностью... Ведь рядом, рукой подать! Крымский мост лишь перейдёшь и - вот он!
Предикативными доминантами текста выступают глаголы движения в форме настоящего и прошедшего времени: шли; бредёшь ; глаголы ментального действия: посмотришь; видишь . Эмотивная доминанта рассказа - радость: „.мы всегда шли пешком, не спеша, предвкушая удовольствие от встречи Парком, от всего, что в нём есть, и только и ждёт нас; Бредёшь расслабленно через Крымский мост… За его оградой, внизу - Москва-река в солнечном блеске... .
И. Штокман описывает летний парк, используя следующие номинации и синтаксические конструкции: Нескучный сад; павильоны, аттракционы, тир, лодочные станции, летний кинотеатр. Каждый павильон для мальчишек послевоенного времени - окно в мир, где царит особая атмосфера. Например, в одном из павильонов находилась трофейная выставка. Номинации немецкое оружие, знамена, мундиры, ордена, картины, танки, самолеты, предикат «помнить» служат репрезентации смысла ‘память о войне’: Ведь войну все мы помнили, она прошла на наших глазах…; ... залезали внутрь поверженной, пленённой этой техники, всё там осматривали, ощупывали. Опора на перцептивные модусы зрения и осязания помогают И. Штокману передать эмоциональное состояние героя, а читателю – прочувствовать свою сопричастность тому, что так волнует рассказчика, ещё раз осознать, какой ценой завоевана Победа, ощутить гордость за нашу страну: …никогда нам не надоедало бродить по трофейной выставке, разглядывать всё, как в первый раз, с жутковатым интересом, с холодком под ложечкой и всё разгорающейся, крепнущей гордостью за нашу победу!
Трофейная выставка вызывала не только мальчишеское любопытство, но и воспитывала в ребятах уважение к своей стране.
Посещение кинотеатра – еще одна мальчишеская радость. Придя в этот «деревянный щелястый сарай», герой абстрагировался от внешнего мира, забывал обо всех заботах. Эмотивная доминанта этой части рассказа маркирована предикатами «любить», «нравиться»: Я очень любил эти утра в Парке, когда спе-шишь-торопишься по нему к летнему кинотеатру; Свет медленно гаснет, выключаемый через реостат, - всегда это нравилось , обостряло предвкушаемое удовольствие! И начинался фильма .
Одним из развлечений мальчишек послевоенной поры являлась лодочная станция: Лодки выдавали под паспорта, у нас их ещё не было, и из дома похищались метрики, хоть это и было запрещено строго-настрого <__> получали под метрику лодки - тщательно, придирчиво выбирались они! На этих лодках и научились все мы грести… .
Но главным в парке для героя и его друзей оставался тир. Семантическое поле «тир» формируется номинациями «духовушка», уточка, волк, медведь, мушка, прицел, пульки .
Зимой главное развлечение в парке – каток. Автор вводит в текст номинации коньки, «гаги», «канады», «норвежки», виражи, скольжение, вращение ; сложные наименования: Большой массовый каток, Малый каток . Ключевыми являются глаголы движения в форме настоящего и прошедшего времени: гонять, мчишь, мчался, кружиться, вращаться, вылетать, врываться, тормозить, шарахаться . «Круг Большого массового поля» - символ содружества тех, кто пришел на каток: Самое лихое, самое веселое катанье было здесь, на Большом массовом. Был в парке и Малый каток, где царствовали фигуристы и который ассоциировался у рассказчика с балетом. «Ласточки» и «волчки» фигуристов вызывали у ребят эстетическое наслаждение: … и всё это легко, красиво, с точным каким-то изяществом, выверенным и привычным, заранее накатанным . Однако смысловым центром рассказа выступает образ солнца ( свет, тепло, яркость; в солнечном блеске; солнечная рябь на воде, где солнечно ) – репрезентант смысла ‘счастливое детство’: Солнце , ослепительное после темноты кинозала, высоко уж над головой; А солнечная рябь на воде слепила, хоть зажмурься; Таков был парк Горького летом - солнце , зелень, старые толстые ивы над прудами .
И. Штокмана память позволяет герою вернуться в прошлое, пережить всё заново. Парк вспоминается как место, где во многом формировалась личность ребенка, его нравственная, эстетическая и духовная сферы. Писатель смотрит на своего героя со стороны и изнутри, постоянно переключаясь с внешних событий на внутреннее состояние личности.
Выводы . Мотив памяти объединяет произведения И. Штокмана в единое целое. Через языковое означивание живого мира звуков, красок, запахов, образов сверстников, близких людей автор воплощает в слове не только события своего детства и юности, осуществляя через слово связь времен, но и мир своей души. За словом в тексте стоит заданный автором набор ценностей, т.е. коды культуры, которые читатель должен раскодировать, чтобы понять произведение.
Список литературы Мотив памяти и средства его вербальной манифестации в прозе И. Штокмана
- Бутакова Л.О. Авторское сознание в поэзии и в прозе: когнитивное моделирование: монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 283 с.
- Демьянков В.З. Теория языка и динамика американской лингвистики на страницах журнала «Language» // Вопросы языкознания. № 4. 1989. С. 128-148.
- Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис, 2005. 543 с.
- Кубрякова Е.С. Об одном фрагменте концептуального анализа слова память // Логический анализ языка. Культурные концепты / Под ред. Н.Д. Арутюновой. М.: Индрик, 1991. С. 85-91.
- Лихачев Д.С. Искусство памяти и память искусства. Письма о добром и прекрасном. М.: Альпина Диджитал, 1985. С. 160-161.
- Масленникова Е.М. Читатель, слово и текст: восхождение по «лестнице смыслов» // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2018. № 4. С. 210-215.
- Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академический Проспект, 2004. 992 с.
- Пищальникова В.А. Репрезентация смыслов концептуальной системы автора в художественном тексте // Филология и культура: мат-лы IV международн. науч. конф. 16-18 апреля 2003 г. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2003. С. 395-396.
- Штокман И.Г. Дворы: Повести. Рассказы. Стихотворения. М.: ИТРК, 2004. 352 с.
- Штокман И.Г. До мартовских календ. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2010. 432 с.
- Четверикова О.В. Знаки авторства как средства вербальной манифестации смысловой сферы творческой языковой личности: монография. Армавир: РИО АГПА, 2013. 236 с.
- Шаховский В.И. Эмоционально-смысловая доминанта в естественной и художественной коммуникации // Язык и эмоции: личностные смыслы и доминанты в речевой деятельности: сб. науч. трудов ВГПУ. Волгоград: Изд-во ЦОП «Центр», 2004. 248.
- Эткинд Е.Г. Проза о стихах. СПб.: Знание, 2001. 446 с.
- Eckblad G. Scheme theory. Conceptual framework for cognitive-motivational process. L.: Acad. Press, 1981. 131 р.
- Мoote G., Strondsburg R. Environmental knowing. Strondsburg, 1976 / URL: http://www.dissercat.com/content/modusy-pertseptsii-zrenie-slukh-osyazanie-obonyanie-vkus-i-ikh-vyrazhenie-v-yazyke#ixzz5ewsZTAxM (accessed at 8.02.2019).