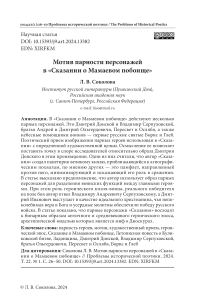Мотив парности персонажей в «Сказании о Мамаевом побоище»
Автор: Соколова Л.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В «Сказании о Мамаевом побоище» действуют несколько парных персонажей. Это Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской, братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Пересвет и Ослябя, а также небесные помощники воинов - первые русские святые Борис и Глеб. Поэтический прием изображения парных героев использован в «Сказании» с определенной художественной целью. Осмысление ее позволяет поставить точку в споре исследователей относительно образа Дмитрия Донского в этом произведении. Одни из них считали, что автор «Сказания» создал панегирик великому князю, приближающийся к агиографическим похвалам, по мнению других - это памфлет, направленный против него, минимизирующий и искажающий его роль в сражении. В статье высказано предположение, что автор использует образ парных персонажей для разделения воинских функций между главными героями. При этом роль героического князя-воина, реального победителя на поле боя автор отвел Владимиру Андреевичу Серпуховскому, а Дмитрий Иванович выступает в качестве идеального христианина, чья непоколебимая вера в Бога и усердные молитвы обеспечили победу русского войска. В статье показано, что парные персонажи «Сказания» восходят к бинарным образам античного и средневекового героического эпоса, архетипической моделью которых является миф о Диоскурах.
Парность героев, мотив, художественный прием, героический эпос, сказание о мамаевом побоище, летописная повесть о куликовской битве, задонщина, дмитрий донской, владимир серпуховской, братья ольгердовичи, пересвет и ослябя, борис и глеб
Короткий адрес: https://sciup.org/147243492
IDR: 147243492 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13382
Текст научной статьи Мотив парности персонажей в «Сказании о Мамаевом побоище»
Р ечь в статье пойдет об одном художественном приеме в «Сказании о Мамаевом побоище», которое вошло в цикл древнерусских повестей о Куликовской битве 1380 г. наряду с «Летописной повестью о Куликовской битве»1 и «Задонщи-ной». По вопросу о взаимоотношении этих памятников до сих пор нет единого мнения. Согласно нашим исследованиям, «Сказание о Мамаевом побоище» основано на «Летописной повести о Куликовской битве». «Задонщина» же является не начальным (как принято считать), а заключительным произведением цикла, автор которого знаком и с «Летописной повестью», и со «Сказанием» [Соколова, 2020а].
В 1980 г. А. Н. Робинсон написал: «Для всех исследователей достаточно очевидно, что ни одна из повестей о Куликовской битве не является документальным описанием события и каждая из них представляет собой литературное произведение с собственными задачами повествования», «только ей свойственным литературным типом». Наиболее показательными в этом отношении являются, по мнению ученого, «различия данных повестей по изображению в них героев битвы, т. е. одних и тех же исторических лиц, и русского войска в целом» [Робинсон: 16–17].
Как же представлены герои Куликовской битвы в «Сказании о Мамаевом побоище» по сравнению с «Летописной повестью»?
В «Летописной повести о Куликовской битве» возглавлявший поход великий князь московский является, по сути дела, единственным героем битвы. Автор создает риторическое восхваление Дмитрия Ивановича, который переправился через Дон, не устрашившись «множества ратей»: против него, согласно «Летописной повести», выступил не только Мамай с большим войском, но и литовский князь Ягайло (в «Сказании» замененный на его отца Ольгерда) и Олег Рязанский. Сообщается, что Дмитрий Иванович начал сражение в сторожевом полку, первым вступившим в бой, а затем, «недолго попустя», отъехал в великий полк. Автор «Летописной повести» подчеркивает, что, несмотря на советы князей и воевод не рисковать жизнью, великий князь храбро сражался в первых рядах и при этом не был ранен, поскольку Бог сохранил его невредимым:
«…бьяшеся с тотары тогда, ставъ напреди всѣх. А елико одѣсную и ошююю его дружину его биша2, самого же въкругъ оступиша около, аки вода многа обаполы, и многа ударениа ударишася по главѣ его и по плещема его и по утробѣ его, но от всѣх сих Богъ заступил его въ день брани щитом истинным и оружеем благо-волениа осѣнилъ есть над главою его, десницею своею защитил его, и рукою крѣпкою и мышцею высокою Богъ избавилъ есть, укрѣпивый его, и тако промежи ратными многыми цѣл съхра-ненъ бысть» ( Сказания и повести : 22).
В «Сказании», созданном, по нашему мнению, в середине XV в. (см. об этом: [Соколова, 2020b]), существенно изменена трактовка образа Дмитрия Донского3. Здесь значительно пространнее описывается подготовка Дмитрия Ивановича к походу против Мамая, которая заключается в основном в том, что князь постоянно молится, посещает разные храмы, неоднократно встречается с митрополитом Киприаном, вместе со всем войском отправляется в Троицкий монастырь за благословением Сергия Радонежского. В «Сказании», в отличие от «Летописной повести», великий князь менее решителен, он неоднократно советуется при принятии решений и с митрополитом (по поводу предстоящего столкновения с Мамаем), и с князьями-участниками битвы (по поводу посылки «сторожи» в поле, перехода Дона и др.).
Во время же боя Дмитрий Иванович, согласно «Сказанию», по сути дела, отказался от руководства сражением. Перед началом битвы он обменялся доспехами и конем с боярином Михаилом Бренком, который занял место великого князя под его «черным» стягом. Под этим знаменем и погиб Михаил Бренок; он был найден убитым на поле боя в доспехах и шлеме великого князя московского. В последующем повествовании сообщается, что после поединка Пересвета с богатырем из войска Мамая Дмитрий Иванович отдает приказ начать битву. В отличие от «Летописной повести», где подчеркнуто, что великий князь не был ранен, в «Сказании» говорится, что он был ранен и сбит с коня, «нужею склонився с побоища» и укрылся «в дебри» (Сказания и повести: 44).
Постоянным спутником Дмитрия Ивановича является в «Сказании» его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской. В отличие от «Летописной повести о Куликовской битве», где он назван всего четыре раза, в «Сказании» его имя постоянно упоминается рядом с именем Дмитрия Ивановича. Во время боя серпуховской князь возглавлял засадный полк (в «Летописной повести» о нем не говорится), благодаря которому произошел перелом в битве и татары обратились в бегство. Храбрость, удаль князя Владимира подчеркивается тем, что он рвется в бой, и только более опытный воевода Боброк Волынец удерживает его от преждевременного выступления из засады. Именно полк серпуховского князя преследует воинов Мамая до их стана. Возвратившись же на поле битвы, Владимир Андреевич, не обретя на поле боя Дмитрия Ивановича, «стал на костях» под знаменем, по сути дела, как выигравший сражение полководец, за которым осталось поле битвы, что было прерогативой князя, возглавлявшего поход4. Он же повелевает трубить в «собранные» трубы, созывая оставшихся в живых воинов, и обращается к ним с речью, что также было привилегией предводителя войска ( Сказания и повести : 44–46).
Владимир Андреевич расспрашивает воинов о Дмитрии Ивановиче и распоряжается отыскать его. Они долго ищут великого князя и наконец находят его «бита и язвена велми и трудна, отдыхающи ему под сѣнию ссѣчена дрѣва березова» (Сказания и повести: 46). Владимир Андреевич сообщает великому князю о победе над врагами и поздравляет его с честью победителя, по праву принадлежащей ему самому. При этом он говорит о победе как достигнутой «милостью Божиею и Пречистыа Его Матери, пособием и молитвами сродникъ наших святых мученикъ Бориса и Глѣба и молением русскаго святителя Петра и пособника нашего и въоружителя игумена Сергиа, и тѣх всѣх святых молитвами врази наши побѣжени суть, мы же спасохомся» (Сказания и повести: 46). Тем самым решающую роль в победе Владимир Андреевич отводит помощи Бога и тех святых, которым молился великий князь, а также игумена Сергия, благословившего его на битву. В ответ на это Дмитрий Иванович возносит хвалу и благодарность Богу и Богородице, услышавшим его молитвы и даровавшим русскому войску победу.
Вместе с другими князьями и воеводами великий князь объезжает поле битвы, обращается с речью к оставшимся в живых воинам, благодарит их и призывает похоронить павших в бою соотечественников. Таким образом, после сражения, героем которого выступает Владимир Андреевич, автор «Сказания» возвращает Дмитрию Ивановичу обязанности полководца, собравшего и возглавившего русское войско на битву с Мамаем.
Существуют разные точки зрения по поводу изображения в «Сказании» главных героев Куликовской битвы. По мнению М. Н. Тихомирова, «Сказание» прославляло Владимира Андреевича Серпуховского и литовских князей Ольгердовичей, а «Дмитрий Донской изображен почти трусом»; и это «сознательное искажение действительности, а не простой литературный прием» [Тихомиров: 346]. Историк считал, что рассказ о Дмитрии, якобы лежавшем «без памяти у срубленной березы», представляет собой «своего рода памфлет, направленный против великого князя и, вероятно, возникший в кругах, близких к Владимиру Андреевичу Серпуховскому» [Тихомиров: 370]. Сходную точку зрения высказал Л. В. Черепнин. По его мнению, автор «Сказания» основывался на непроверенных слухах, повествуя о том, что Дмитрий Иванович переоделся в одежду Михаила Бренка. Тем самым он якобы «уклонился от руководства русскими полками в день сражения и фактическим победителем на Куликовом поле оказался князь Владимир Андреевич» [Ч ерепнин: 619]5. Ранение, заставившее Дмитрия
Ивановича фактически выбыть из строя в часы боя (вероятно, исследователь воспринимал его как реальный факт), было, по убеждению историка, использовано врагами Московского княжества из числа русских правителей и противниками Дмитрия Донского из числа московских и не московских бояр для его опорочения [Черепнин: 619]6.
Л. А. Дмитриев, напротив, был убежден, что публицистической задачей «Сказания» было «показать первенство великого князя московского». В связи с этим Дмитрий Иванович рисуется в «Сказании» не только как идеальный князь, мудрый государственный деятель, но и «как талантливый полководец, отважный и смелый воин», проявляющий «личную доблесть и мужество» [Дмитриев, 1959: 429]. «Свое великокняжеское одеяние он отдает любимому боярину Михаилу Бренку, а на себя надевает боевые доспехи (но разве княжеские доспехи были не боевыми? — Л. С.), чтобы биться с врагом наравне со всеми, как простой воин. Когда войска начинают сходиться, великий князь московский хочет быть впереди всех. Он сражается в самом центре боя7, как богатырь, сразу с несколькими врагами, и, как богатырь, он не убит, но настолько утомлен боем, что вынужден отъехать в сторону, где падает почти замертво» [Дмитриев, 1959: 429]8. Более того, по утверждению Л. А. Дмитриева, «Сказание о Мамаевом побоище» — «это не только рассказ о битве с татарами, но своего рода панегирик великому князю московскому, приближающийся к агиографическим похвалам» [Дмитриев, 1959: 426]. Его «характеристика скорее похожа на характеристику святого, чем государственного деятеля: Дмитрий Иванович представляется смиренным христианином, помышляющим только о небесном и уповающим во всем на Бога» [Дмитриев, 1959: 427]. Религиозная трактовка образа великого князя усиливается тем, что он призывает русских князей бороться за православную веру и сам выражает готовность «пострадать» за веру Христову «даже и до смерти» [Дмитриев, 1959: 428].
Образ Владимира Андреевича Серпуховского в «Сказании о Мамаевом побоище» является, по словам Л. А. Дмитриева, «идеальным примером "братской" верности младшего князя старшему, т. е. примером вассальной верности удельного князя великому князю московскому…» [Дмитриев, 1959: 429–430]. По мнению исследователя, в «Сказании» Владимир Андреевич — «человек безынициативный, лишь выполняющий волю великого князя. Даже в эпизоде с засадным полком он очень несамостоятелен <…> Время, когда полк должен выехать из засады, определяет Волынец, он же направляет воинов на битву ("а стяги их направлены крепкым въеводою Дмитре-ем Волынцем")» [Дмитриев, 1959: 430]. Поэтому, заключает Л. А. Дмитриев, «как самостоятельная личность князь серпуховской для автора Сказания не представлял интереса» [Дмитриев, 1959: 430]9. С этим утверждением трудно согласиться, особенно если учесть, что сам эпизод с засадным полком был сочинен автором «Сказания» по примеру подобного эпизода в «Сербской Александрии» [Петров] и что в «Летописной повести», на которой основывался автор «Сказания», роль Владимира Андреевича номинальна.
А. Н. Робинсон задался вопросом: «…что же представлял собой по "Сказанию" образ Дмитрия: панегирик или памфлет?» [Робинсон: 25]. И ответил на него так: «Наши наблюдения подтверждают приведенное суждение Л. А. Дмитриева о том, что автор "Сказания" создал панегирик Дмитрию Донскому» [Робинсон: 25]. По словам исследователя, «усиленно развивая в процессе всего повествования представления о Дмитрии как благочестивом христианине, автор вполне логично (по воззрениям эпохи) подводит своего героя к желанию стать подвижником — "страстотерпцем", пострадать или даже погибнуть в бою за свои идеалы10» [Робинсон: 23].
Как при этом объяснил А. Н. Робинсон поведение великого князя на поле боя? Поменявшись одеждой, доспехами и конем с боярином Михаилом Бренком, Дмитрий Иванович, по словам исследователя, « как бы освобождается от великокняжеского церемониала и получает свободу действий в бою . Он не может быть узнан татарами, но узнается русскими, что и необходимо автору для дальнейшего рассказа» [Робинсон: 22]. А уход великого князя с поля боя — это, по словам А. Н. Робинсона, « отнюдь не бегство , так как автор поясняет: "божиею силою сохранен бысть"» [Робинсон: 23].
Как видим, исследователи, утверждавшие, что автор «Сказания» создал панегирик великому князю Дмитрию Ивановичу, не смогли убедительно объяснить эпизоды «Сказания», рисующие поведение Дмитрия Ивановича во время боя: переодевание, обмен конем, передачу своего великокняжеского знамени, уход раненым с поля боя.
Согласно «кодексу чести» древнерусского воина11, он не имел права живым покинуть поле боя, даже будучи раненым. Так, например, в «Повести о разорении Рязани Батыем» татары, пораженные богатырской силой воинов Евпатия Коловрата, говорят Батыю:
«Мы со многими цари, во многих землях, на многихъ бранех бывали, а таких удалцов и резвецов не видали, ни отци наши возвестиша нам. Сии бо люди крылатыи, и не имеюще смерти:
тако крѣпко и мужествено ездя, бьяшеся един с тысящею, а два со тмою. Ни един от них может съехати жив с побоища»12.
Великий же князь, согласно «Сказанию», покинул поле боя, его видели «пѣша и идуща с побоища, уязвена велми» ( Сказания и повести : 46). При этом перед началом сражения он так отвечал приближенным, убеждавшим его не рисковать собой, не вставать в первых рядах:
«Кто болши мене в русскых сыновѣх почтенъ бѣ и благаа беспрестани приимах от господа? А нынѣ злаа приидоша на мя, ужели не могу тръпѣти: мене ради единаго сиа вся въздвигоша-ся. Не могу видѣти вас побѣжаемых13, и прочее к тому не могу тръпѣти, и хощу с вами ту же общую чашу испити и тою же смер-тию умрети за святую вѣру христианскую! Аще ли умру — с вами, аще ли спасуся — с вами!» ( Сказания и повести : 43).
Эта речь сочинена автором «Сказания» по образцу речи князя в «Летописной повести»14. Но если в «Летописной повести» (где не говорится о ранении князя и уходе его с поля боя) Дмитрий Иванович верен своему высказыванию, следует ему, то в «Сказании» слово князя расходится с делом.
Чем же объяснить создание противоречивого образа Дмитрия Донского в «Сказании о Мамаевом побоище»? Вероятно, попыткой автора отдать должное и другим героям Куликовской битвы, прежде всего, двоюродному брату великого князя, Владимиру Андреевичу Серпуховскому, за отвагу удостоенному прозвища «Храбрый».
Стояла ли при этом перед автором «Сказания» задача принизить образ великого князя московского, как полагали некоторые исследователи, или переосмысление его роли в бою по сравнению с «Летописной повестью» следует объяснить иначе? Можно предположить, что автор «Сказания» разделил воинские функции между Дмитрием Ивановичем и Владимиром Андреевичем, использовав прием парности героических образов, или мотив «эпического братства»15.
Дмитрий Иванович выступает как организатор похода. В его лице автор «Сказания» создал идеализированный тип, персонифицирующий идею христианина, который победил врагов Руси потому, что непоколебимо верил в помощь небесных сил. Промыслом Божиим спасен и сам Дмитрий Иванович, тяжело раненный в бою. Что касается доблести великого князя как полководца, то она в «Сказании» не демонстрируется16. Эту функцию выполняет его двоюродный брат Владимир Серпуховской, который, занимая подчиненное положение по отношению к великому князю московскому, активно проявляет себя именно в бою.
По всей вероятности, сознательный отказ от изображения геройства Дмитрия Донского объясняется стремлением автора «Сказания» подчеркнуть его духовную функцию, его роль молитвенника и праведника, твердого в вере, и по своей вере получившего просимое. Используя наблюдение А. Н. Робинсона о двух типах изображения героизма в повестях о Куликовской битве (по его мнению, объединенных в фигуре Пересвета) [Робинсон: 34], можно отметить, что традиционно эпиче ский («тленны й») тип героизма связан в «Сказании» с образом
Владимира Андреевича, а традиционно христианский («нетленный») тип героизма — с фигурой Дмитрия Ивановича.
Введя мотив парности персонажей, автор «Сказания» вынужден был создавать вымышленные эпизоды, демонстрирующие героическое поведение Владимира Андреевича, важную роль в Куликовской битве братьев Ольгердовичей, и, напротив, выдумывать эпизоды, снижающие образ великого князя московского. Задавшись целью оставить Дмитрию Ивановичу роль полководца, организовавшего и возглавившего поход против Мамая, но при этом изобразить реальным героем, победителем на поле боя Владимира Андреевича, автор «Сказания» вынужден был удваивать некоторые эпизоды. Вопреки традиции, под княжеским знаменем «стал на костях» на поле боя Владимир Андреевич, он созвал воинов «собранною» трубою и произнес перед ними речь. Но далее говорится о том, что после объезда поля битвы Дмитрий Иванович тоже «повелѣ трубити в събранные трубы, съзывати люди» ( Сказания и повести : 47) и тоже обратился к воинам с речью, уже как предводитель войска. Вторично сообщается и о «стоянии на костях»:
«…стоялъ князь великий за Даном на костѣх осмь дний, дондеже розобраша христианъ с нечестивыми» ( Сказания и повести : 47).
И это сознательное удвоение, подчеркивающее роль в битве Владимира Андреевича.
Итак, при изображении главных героев автор «Сказания о Мамаевом побоище» использовал художественный прием парности персонажей. Здесь изображены и другие «героические пары»: братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Пересвет и Ослябя, святые Борис и Глеб, помогающие русским воинам на поле боя.
Тесная соотнесенность и тождественность функций в совместной деятельности на благо социума — главные черты бинарного эпического образа, отличающие его от других действующих лиц.
Наиболее архаический вариант героических пар в письменном эпосе исследователи видят в «Песне о Гильгамеше», произведении вавилоно-ассирийской (аккадской) литературы, которое можно рассматривать как героический миф. Здесь Гильгамеш (человек цивилизации) приобщает Энкиду (дикое лесное существо со следами зооморфного происхождения) к культуре, и вместе они совершают ряд подвигов [Агранович, Саморукова: 22].
В гомеровском эпосе, как показала И. В. Шталь, несколько героических пар. Это, во-первых, Ахилл и Патрокл. Их роли в пределах эпического идеала резко разграничены, определены и противопоставлены: Ахилл в основном — неистовый воин , он эталон эпического воина, воплощенный идеал бойца, Патрокл — разумный советник . Различаясь, «они дополняют друг друга на пути к равномерно-полному воплощению идеала "мужа хорошего", "лучшего", идеала воина и советника разом, и совокупность их качеств в целом составляет этот идеал. Ахилл и Патрокл — "половинки" единого эпического целого, эпические двойники» [Шталь: 181].
Аналогичная им героическая пара в «Илиаде» — троянские герои Гектор и Полидамас. Гектор — величайший воитель Трои; храбростью, доблестью, умением сражаться он превышает всех своих соотечественников. Как и всякий эпический герой, Гектор — не только воин, но и советный муж, лучший во всех своих геройских проявлениях. Однако в военном деле Гектор гораздо искуснее и удачливее, чем в советах. Функции советного мужа при Гекторе выполняет Полидамас. Он тоже воин, но главное в нем то, что он благомыслен, знает минувшее и грядущее, разумен, дальновиден и превосходит всех троянских героев мудростью речей, как Гектор превосходит их копьем [Шталь: 182–183].
Назовем еще одну героическую пару греческих воинов «Илиады»: это Диомед и его брат по оружию Одиссей, с которым он разделил несколько приключений. Оба они были любимыми героями Афины, каждый из них обладал чертами своей богини-покровительницы: Одиссей — ее мудростью и хитростью, а Диомед — ее мужеством и умением в бою, хотя ни один из них не был полностью лишен ни того, ни другого аспекта.
Исследование И. В. Шталь чрезвычайно важно для понимания сути эпической парности героев. В данном случае мы имеем дело с парами героев, взаимодополняющими друг друга до эпического идеала. Они связаны совместными испытаниями, это своего рода воинское побратимство. Как отметила исследо-вательница17, «суть эпического двойничества сводится к количественно равному взаимодополнению характеров "качествами", "свойствами" противоположными, соответственно в каждом из характеров отсутствующими и имеющими смысл лишь во взаимозамещении и взаимовозмещении до некой целостности» [Шталь, Попова: 62].
Говоря о парности героев в эпосе, И. В. Шталь употребила термины «эпическое двойничество» и «эпические двойники». Эти термины использовали по отношению к парным персонажам героического эпоса также Н. С. Демкова [Демкова] и авторы книги «Двойничество» С. З. Агранович и И. В. Саморукова [Агранович, Саморукова], а вслед за ними и мы [Соколова, 2023]. Однако термин «двойники» по отношению к парным эпическим героям нельзя признать удачным, поскольку он может вызывать ненужные ассоциации с героями-двойниками литературы XIX–XXI вв., олицетворяющими «разномирие» и раздвоенность сознания персонажа18. Двойник и его протагонист в литературе Нового времени находятся в отношениях противостояния, иногда вражды (нередко двойник «питается» за счет протагониста, по мере его увядания становясь все более самоуверенным и как бы занимая его место в мире), тогда как парные персонажи античного и средневекового героического эпоса — символ двуединства и взаимопомощи. Их архетипом являются тесн о связанные и взаимодополняющие друг друга
«божественные воители» близнецы Диоскуры, совершающие совместно ряд подвигов19 (о «близнечных» мифах см.: [Иванов]).
С. З. Агранович и И. В. Саморукова, понимая термин двой-ничество расширительно, подразделяют двойников на три категории: «двойники-антагонисты», «карнавальные пары», «близнецы». При этом «эпическое двойничество» они рассмотрели в разделе «двойники-антагонисты», что вряд ли оправданно, поскольку отнюдь не антагонизм характеризует «эпических двойников» (т. е. героические пары), а, напротив, взаимоотношения «братства» и взаимной любви20.
Парные образы фигурируют также в героическом эпосе Средневековья, например, в «Песни о Роланде». Е. М. Мелетинский отметил, что «Песнь о Роланде» — образец классической стадии развития эпоса — отчетливо противопоставляет «умному» Оливьеру «смелого» Роланда, который неразумно (с запозданием) трубит в рог и неразумно принимает бой с сарацинами, что ведет к «гибели со славой» [Мелетинский: 25–26]. Оливье — такой же доблестный рыцарь, как Роланд, но он благоразумен и предпочел бы не гибнуть зря, когда достаточно протрубить в рог, чтобы пришла подмога. А. Д. Михайлов подчеркнул, что было бы неверным считать Оливье менее смелым, чем Роланд. Он славно сражается под Ронсевалем, столь же славна и его смерть. Он только лишен «чрезмерности» Роланда. В «Песни» говорится: «Роланд — храбр, Оливье — мудр, / Одинаковой доблестью отмечены оба» [Михайлов: 157]. Роланд горяч и вспыльчив, что и позволит ему в более поздней литературе с легкостью стать «неистовым»21 [Михайлов: 157]. Следовательно, в «Песни о Роланде» мы видим такую же систему организации персонажей, что и в гомеровском эпосе: неистовый воин и разумный советник дополняют друг друга до эпического идеала воина22.
Отношения героев в средневековом эпосе — своеобразный патронаж, например, они иногда связаны вассально-сюзеренными отношениями, как Гуннар и Хёгни в героических песнях «Старшей Эдды». При этом их взаимоотношение «характеризуется своеобразной асимметрией: один из двойников — эпический герой — в паре выступает как ведущий, главный», другой «имеет вторичную функцию, как бы оттеняя героическую избыточность эпического героя» [Агранович, Самору-кова: 22]. В последующей традиции, например, в европейском рыцарском романе, «пара эпических друзей трансформируется в господина и слугу, рыцаря и оруженосца», приобретая в «Дон Кихоте» Сервантеса пародийную семантику [Агранович, Саморукова: 22]. Эта разновидность парных образов всегда связана со смехом, с тем, что М. М. Бахтин назвал карнавально-стью [Бахтин]23.
В древнерусской литературе прием парности героев встречается уже в «Слове о полку Игореве», что отметил Б. М. Гаспаров. Он обратил внимание на «один многократно повторяющийся мотив: представление князей, которым адресуется гиперболизированная похвала, в виде тесно связанной пары, каждый из членов которой наделен определенной ролью в соотношении с другим членом пары» [Гаспаров: 187]. Наиболее подробно разработанной героической парой такого рода являются Игорь и Всеволод: «В произведении специально подчеркнуто, что два главных героя — не просто братья, но единственные братья, составляющие, таким образом, замкнутую соотносительную пару: " Одинъ братъ , одинъ свѣтъ свѣтлыи ты, Игорю, оба есвѣ Святъславличя !"» [Гаспаров: 187–188]. Реальная деталь приобретает здесь, по словам исследователя, дополнительную функцию, подчеркивая соотнесенность героев в качестве тесной братской «пары». Гаспаров отметил также, что некоторые черты в характеристике братьев напоминают о целом ряде компонентов «близнечного мифа» (мифа о Диоскурах) [Гаспаров: 188].
Н. С. Демкова, указав на различие функций парных героев «Слова о полку Игореве»24, добавила, что «Слово» родственно в этом отношении другим произведениям средневековой литературы: «…на память приходят <…> Юрий Ингваревич и Ингварь Ингваревич, замещающий его, в "Повести о разорении Рязани", Дмитрий Донской и Владимир Серпуховский, Пересвет и Ослябя в "Задонщине" (и в "Сказании о Мамаевом побоище")» [Демкова: 55]. Здесь важно отметить, что все произведения Куликовского цикла так или иначе связаны со «Сло вом о полку И гореве».
Итак, мы видим, что мотив парности героев в «Сказании о Мамаевом побоище» входит в приведенный культурный контекст, конечно же, далеко не полный.
В «Сказании» Владимир Андреевич образует пару не только с Дмитрием Ивановичем. Традиционную для героического эпоса пару он составляет на поле боя с Дмитрием Боброк Волынцем: « неистовый », нетерпеливый, рвущийся в бой князь Владимир и « разумный », более опытный «советник»-воевода, выбирающий подходящее время для вступления в бой засадного полка.
Еще одной героической парой, прославляемой в «Сказании», являются братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. Они идентичны друг другу, различия между ними сглажены. Выступая как единое целое, они прославляются не только как доблестные воины, но и как мудрые советники. По «Сказанию», именно они советуют Дмитрию Ивановичу перейти Дон. Пару героев представляют в «Сказании» также монахи Троицкого монастыря Пересвет и Ослябя, один из которых предстает в образе искупительной христианской жертвы (Пересвета трудно отнести к образу героя-богатыря), а другой выступает как исполнитель его предсмертного завещания, посредник между погибающим героем и его миром. Парность образов Пересвета и Осляби ближе всего к тому типу, который Н. Т. Рымарь характеризует как разнообразные случаи «дополнения центрального образа второстепенным персонажем»: «…главного персонажа сопровождает его товарищ, друг, самостоятельной роли в сюжете не играющий, а лишь пространственно как бы поддерживающий основной образ» [Рымарь: 87]25.
Еще один бинарный образ в «Сказании» — это первые русские святые Борис и Глеб, помогающие русским воинам на поле битвы, подобно тому, как Диоскуры и Ашвины содействовали достойным воинам на суше и на море. В образе Бориса и Глеба культивируется идея защитников и покровителей княжеского рода, «тем самым всей земли, которая управляется этим родом» [Успенский: 42, 46]. В. Н. Топоров отмечает в текстах о Борисе и Глебе и в их иконописных изображениях идею «благодатной парности», а не простой двоичности, и характеризует их как «двойчатку», «близнецов», сопоставляя конные изображения святых с дохристианскими образами конных «божественных близнецов» круга ведийских Ашвинов26 или древнегреческих Диоскуров, с одной стороны, и с конными парами христианских мучеников типа Флора и Лавра или Сергия и Вакха — с другой [Топоров: 495–501]27.
На примере образов Бориса и Глеба В. Н. Топоров показывает, что святые могут объединяться в пару постфактум, после смерти. По его мнению, «обнаруживается ряд обстоятельств, в той или иной мере препятствующих признанию Бориса и Глеба строго канонической парой»: они «княжили в р а з н ы х городах (Ростове и Муроме), были убиты п о р о з н ь (в р а з н ы х местах, в р а з н о е время, при разных обстоятельствах) и, главное, в сюжете "Сказания" они не выступают вместе ни в одном эпизоде, оставаясь до самой своей смерти р а з ъ е д и н е н н ы м и»; «"парность" Бориса и Глеба обнаруживает следы известной "подготовленности", подстроенности и последующей обыгран-ности этой идеи» [Топоров: 495]; «…подлинной парой Борис и Глеб становятся только в своей единой страстотерпческой смерти, как парная жертва, т. е. парадоксальная удвоенная жертва <…>, своего рода "сверхжертва"» [Топоров: 496]. Подчеркнем, что В. Н. Топоров пишет о парности православных святых как о признаке особой категории святости, объясняя это двуединой жертвой братьев, которая становится праведной «сверхжертво й»28.
С. В. Жиляков рассматривает образы Бориса и Глеба в «Повести временных лет» как «архетипические дуальные образы» и отмечает использование их мифологемы в произведениях Куликовского цикла [Жиляков: 166].
Итак, мотив парности героев, имеющий глубокую традицию, в русской литературе присутствует уже в «Слове о полку Игореве»; он продолжает разрабатываться в «Повести о разорении Рязани» и в «Сказании о Мамаевом побоище», а затем в зависимой от него «Задонщине», т. е. проходит сквозным мотивом в литературных произведениях XII–XVI вв.29
Парность персонажей выполняет в «Сказании о Мамаевом побоище» важную художественную функцию. Если автор «Летописной повести о Куликовской битве» главенствующую роль отводит великому князю московскому Дмитрию Ивановичу, то автор «Сказания о Мамаевом побоище», используя вымышленные сюжеты и создавая занимательные картины боя, вводит в действие других персонажей и «распределяет» между ними заслуги в деле победы русского войска на Куликовом поле. В частности, стремясь показать роль в сражении Владимира Серпуховского, автор использует эпический прием парности персонажей. Он изображает его и Дмитрия Донского как героев-братьев, исполняющих разные роли в битве на Куликовом поле и при этом взаимодополняющих друг друга. Владимир Андреевич выступает как герой традиционного типа — «неистовый воин», в то время как Дмитрий Иванович представлен не как классический «мудрый советник», а как герой нового, христианского типа: в нем подчеркивается набожность, непоколебимая вера в Христа и Его помощь, что и обеспечивает, по «Сказанию», победу русскому войску. Традиционную же для героического эпоса пару («неистовый воин» и «мудрый советник») Владимир Андреевич образует на поле боя с Дмитрием Боброк Волынцем. Рядом с главными героями представлены в «Сказании» и другие парные образы братьев: Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, монахи («братья во Христе») Пересвет и Ослябя, а также небесные помощники русских воинов на поле битвы, первые русские святые — двóица Борис и Глеб.
Изложенная в статье гипотеза раскрывает, на наш взгляд, замысел автора «Сказания» относительно образа Дмитрия Донского, в частности, объясняет изображение его поведения во время боя. Для беллетризованного «Сказания» характерны отступления от реальных событий, не раз отмечавшиеся исследователями анахронизмы и вымышленные эпизоды, что ярко проявилось и при создании образа Дмитрия Донского. В связи с этим пора более решительно отказаться от восприятия этого памятника как достоверного исторического источника.
Список литературы Мотив парности персонажей в «Сказании о Мамаевом побоище»
- Агранович С. З., Саморукова И. В. Двойничество. Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2001. 130 с. [Электронный ресурс]. URL: https://fil.wikireading.ru/hf6iVHwnzZ (27.07.2023).
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979. 318 с.
- Гаспаров Б. Поэтика «Слова о полку Игореве». Wien: Institut für Slawistik der Universität Wien, 1984. 405 с.
- Голикова Д. М. Петр и Павел: образы парных персонажей по лингвистическим данным (на материале английского, французского и русского языков) // Научный диалог. 2018. № 10. С. 23–36 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/920 (27.07.2023). DOI: 10.24224/2227-1295-2018-10-23-36
- Демкова Н. С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве» // Демкова Н. С. Средневековая русская литература: поэтика, интерпретации, источники: сб. ст. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1997. С. 33–76.
- Джумайло О. А. Новые книги о двойничестве // Практики и интерпретации. 2017. Т. 2. № 1. С. 243–255 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pi-journal.com/index.php/pii/article/view/88/97 (27.07.2023).
- Дмитриев Л. А. Публицистические идеи «Сказания о Мамаевом побоище» // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. Т. 11. С. 140–155.
- Дмитриев Л. А. К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. С. 406–448.
- Жиляков С. В. О некоторых архетипических дуальных образах в «Повести временных лет» // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 164–168.
- Иванов В. В. Близнечные мифы // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 174–176.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова. М.: Наука, 1985. 535 с.
- Лихачев Д. С. Смех как мировоззрение // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 7–71.
- Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. Москва: РГГУ, 1994. 136 с. (Сер.: Чтения по истории и теории культуры; вып. 4.)
- Михайлов А. Д. Французский героический эпос: вопросы поэтики и стилистики. М.: Наследие, 1995. 360 с.
- Петров А. Е. «Александрия Сербская» и «Сказание о Мамаевом побоище» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 2 (20). С. 54–64 [Электронный ресурс]. URL: http://www.drevnyaya.ru/vyp/stat/s2_20_4. pdf (27.07.2023).
- Робинсон А. Н. Эволюция героических образов в повестях о Куликовской битве // Куликовская битва в литературе и искусстве. М.: Наука, 1980. С. 10–38.
- Рымарь Н. Т. Поэтика романа. Куйбышев: Изд-во Саратовского ун-та, Куйбышевский фил., 1990. 254 с.
- Скрынников Р. Г. Куликовская битва: проблемы изучения // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983. С. 43–70.
- Соколова Л. В. История возникновения и особенности памятников Куликовского цикла // Русская литература. 2020. № 3. С. 153–164 [Электронный ресурс]. URL: https://ras.jes.su/rusliter/s013160950010998-1-1 (27.07.2023). DOI: 10.31860/0131-6095-2020-3-153-164 (а)
- Соколова Л. В. К вопросу о датировке и авторстве «Сказания о Мамаевом побоище» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2020. Т. 67. С. 643–682. (b)
- Соколова Л. В. Топос «стояние на костях» в древнерусских повествованиях о битвах // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 4. С. 105–148 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/content_list.php?id=83881 (27.07.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2021.10182
- Соколова Л. В. «Сказание о Мамаевом побоище» как полемика с «Летописной повестью о Куликовской битве» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2023. Т. 70. С. 94–128.
- Тихомиров М. Н. Куликовская битва 1380 года // Повести о Куликовской битве / изд. подгот. М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. С. 335–376.
- Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре: в 2 т. М.: Гнозис, Школа «Языки русской культуры», 1995. Т. 1: Первый векхристианства на Руси. 873 с.
- Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М.: Языки русской культуры, 2000. 128 с.
- Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV–XV веках. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М.: Соцэкгиз, 1960. 899 с.
- Шталь И. В. Художественный мир гомеровского эпоса. М.: Наука, 1983. 295 с.
- Шталь И. В., Попова Т. В. О некоторых приемах построения художественного образа в поэмах Гомера и византийском эпосе XII в. // Античность и Византия. М.: Наука, 1975. С. 53–89.
- Slethaug G. E. The Play of the Double in Postmodern American Fiction. Carbondale: Southern Illinois UP, 1993. 248 p.