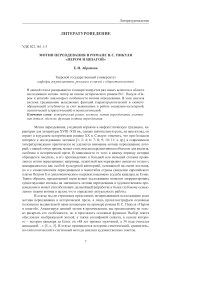Мотив переодевания в романе В. С. Пикуля "Пером и шпагой"
Автор: Абрамова Екатерина Игоревна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье раскрывается и конкретизируется ряд новых аспектов в области исследования мотива. Автор на основе исторического романа В.С. Пикуля «Пером и шпагой» анализирует особенности мотива переодевания. В ходе анализа система традиционно выделяемых функций (характерологической и сюжетообразующей) углубляется за счет выявленных в работе социально-культурной, политической (стратегической) и психологической.
Исторический роман, костюм, мотив переодевания, костюмная деталь, одежда, функции мотива переодевания
Короткий адрес: https://sciup.org/146281506
IDR: 146281506 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Мотив переодевания в романе В. С. Пикуля "Пером и шпагой"
Мотив переодевания, уходящий корнями в мифопоэтическую традицию, характерен для литературы XVIII–XIX вв., однако значительную роль, на наш взгляд, он играет и в русском историческом романе ХХ в. Следует отметить, что при большом интересе к исследованию мотивов [1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; и др.] в современном литературоведении практически не уделяется внимание мотиву переодевания, который, с нашей точки зрения, может стать весьма перспективным объектом для анализа, особенно в исторической прозе. В зависимости от того, к какому периоду истории обращается писатель, в его произведениях в большей или меньшей степени проявляется мотив переодевания: например, галантный век неразрывно связан не только с маскарадностью как особой культурной категорией, основанной на смене костюма, но и с символическим переодеванием в масштабах страны (введение европейского платья Петром I) и дипломатическим «перевоплощением» (судьба кавалера де Еона). Таким образом, предлагаемый нами аспект исследования позволит скорректировать существующие взгляды на значимость мотива переодевания в художественном произведении и может способствовать дальнейшей разработке и более глубокому осмыслению теории мотива в целом, что и определяет актуальность работы.
В статье мы не стремимся представить исчерпывающее исследование роли мотива переодевания в исторической прозе, а лишь проиллюстрируем основные положения выдвигаемой нами концепции на примере романа В. С. Пикуля «Пером и шпагой». Анализируя данный мотив в произведении, мы предполагаем не только раскрыть его особенности, но и проследить основные функции. Выбор текста обусловлен изображаемой эпохой, а также спецификой сюжета, в основе которого – история кавалера да Еона: он «48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной…» [5, с. 5]. В статье применяются историко-генетический, сравнительно-типологический и системный методы анализа художественных текстов.
Анализируя особенности мотива переодевания в художественных произведениях, можно говорить о двух достаточно четко выделяемых и вполне традиционных функциях: 1) характерологической, способствующей обрисовке героев (например, в романе Б. Акунина «Азазель» смена костюмов-масок Бежецкой, играющей роль роковой женщины, или в произведении А. Н. Толстого «Петр Первый» переодевание Голицына во французское платье, подчеркивающее мягкотелость и слабохарактерность князя); 2) сюжетообразующей, когда переодевание становится основой для завязки конфликта, способствует развитию действия или определяет развязку (как в романе Луве де Кувре «Любовные похождения шевалье де Фоблаза» или повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка»).
Однако, на наш взгляд, эти функции не в полной мере демонстрируют специфику мотива переодевания в историческом романе, поэтому мы предлагаем другой принцип классификации, не исключающий традиционный, а скорее дополняющий его. Обратимся к произведению В. С. Пикуля.
Мотив переодевания возникает уже в начале романа «Пером и шпагой», в прологе, но предстает как разоблачение, раздевание, превращающее умершую «девицу» в «кавалера». В прологе переодевание намечено пунктирно как смена гендерного статуса, определяемого важнейшим культурным маркером – одеждой. Табуированное с давних пор переодевание женщины в мужчину и наоборот определяет ряд смысловых доминант произведения Пикуля «Пером и шпагой»: культурно-историческую, маркирующую галантный век с его эротико-игровыми аспектами, политическую (дипломатическую, или, точнее, шпионскую) и психологическую. Эти функции взаимодействуют друг с другом, создавая особое игровое пространство романа о судьбах дипломатов, шпионов и авантюристов.
Переодевание сопровождает героя на протяжении всей жизни, начиная с ранних лет. Используя «слухи» о кавалере де Еоне, автор подчёркивает некоторую двусмысленность в половом определении героя: «Говорят, что отец де Еона был не совсем нормальный, и в детстве де Еона наряжали как девочку. Ходили слухи, что он был девочкой, но отцу хотелось иметь сына, и вот его потом переодели в мужское одеяние» [Там же, с. 12]. Хотя далее речь идёт только о мужчине, этот «маскарад» [Там же, с. 12], связанный с костюмной сменой пола, определяет дальнейшую судьбу героя. Не следует также исключать психологическую составляющую подобных переодеваний, которые, возможно, обусловили некоторые странности в поведении молодого человека, например, его отчуждение от женщин [Там же, с. 14, 386].
Маскарадное переодевание в сцене на празднике в ратуше [Там же, с. 36–39] сыграло значимую роль в судьбе героя: кавалер де Еон был замечен всемогущей фавориткой Людовика XV – мадам Помпадур. Несмотря на то, что автор уточняет: данный случай скорее всего легенда, – внимание к этой истории оказывается необходимым, потому что именно это шуточное переодевание приведёт в мир «секретной дипломатии» [Там же, с. 5]. Таким образом, в тексте наблюдается трансформация культурно-исторической функции переодевания (маскарад – неотъемлемый компонент культуры XVIII в.), которая определяла лишь частный эпизод в жизни героя, в политическую (в этом случае – в дипломатическую, шпионскую), связанную с судьбами государств. Кроме того, в данном эпизоде интертекстуальная основа функционирования мотива [Там же, с. 96] позволяет обнаружить определённые межтекстовые параллели. В романе В.С. Пикуля это одно из ключевых переодеваний молодого человека с «нежным девичьим лицом» [Там же, с. 38] в прелестную незнакомку, очаровавшую короля, подается как игровое, как дерзкая шутка графини Рошфор. Ассоциативно на уровне мотива переодевания в контексте любовной интриги просле- живается взаимосвязь со случаем, ставшим отправной точкой череды переодеваний Фоблаза в романе Луве де Кувре: по просьбе графа Розамбера, стремящегося вызвать ревность маркизы, Фоблаз облачается в женский наряд [2]. «Мотивный» диалог текстов резче очерчивает игровое пространство эпохи XVIII века и одновременно позволяет предположить сюжетообразующую роль переодевания и в романе «Пером и шпагой». Необходимо отметить, что Фоблаз как литературный герой позже возникнет на страницах произведения Пикуля, когда вопрос о половой принадлежности стареющего де Еона станет предметом пари [5, с. 387]. Тогда мотив переодевания предстанет в саркастическом ключе: «Неприятная новость: в Лондоне держат пари, и весьма значительные… Не пора ли вам сменить панталоны на юбку?» [Там же], – и обернётся пожизненным унизительным переодеванием для шевалье.
Дипломатическую биографию де Еона можно условно разделить на два этапа: женский и мужской. Каждый из них маркирован сменой костюма, причем переодевание в девицу де Бомон приравнивается к перевоплощению, активизируя тем самым древнюю сакральную функцию: «Вслед за Дугласом… отправился в дорогу и де Еон. Впрочем, правильнее писать: отправилась, ибо де Еон ехал в Россию под видом женщины. Роскошные туалеты, в которых защеголял наш адвокат, были справлены под наблюдением принца де Конти, знавшего, как надо женщине одеваться, чтобы она нравилась мужчинам!» [Там же, с. 12]. Мы позволили себе привести здесь довольно объёмную цитату, чтобы показать, как переодевание отождествляется с перевоплощением. Если вчитаться в заключительное предложение фрагмента, то в ходе развёртывания фразы имплицитно представленный мотив переодевания («защеголял») превращает «адвоката» в «женщину».
Второй визит шевалье в Петербург (уже в его истинном облике) тоже вводится через переодевание, причем, как и в первом случае, скорее подразумеваемое, чем явно обозначенное: «Вот теперь нам исторически точно известно, что де Еон прибыл в Петербург, и не в женском, а в мужском одеянии (речь идет именно о костюме, а не о половой принадлежности как таковой. – Е. А.). <…> Кавалер Дуглас, видя, как я схожу на берег со шпагой на боку и шляпой под локтем, в белых чулках и напудренном парике, подумал, наверное, что перед ним парижский жентильом…» [Там же, с. 96]. Важно подчеркнуть, что мотив переодевания, обуславливающий мотив неузнанности, настойчиво повторяется автором, что свидетельствует об особой роли исследуемого мотива в структуре произведения (в частности, в сюжетной линии де Еона).
Следует отметить вынужденный характер переодеваний героя в женское платье. Хотя функции подобной смены костюма в романе достаточно широки: от маскарадно-игровой (в ратуше) до дипломатической (первый визит в Россию) и достаточно традиционной – защитной (когда объявлена «охота» на опального дипломата [Там же, с. 379–381]), но навязанное людьми или обстоятельствами переодевание постепенно вытеснит кавалера: «Он остался неумолим. <…> Она неумолима. Вот так и надобно говорить впредь о де Еоне!» [Там же, с. 393]. Насильственное превращение де Еона в госпожу де Бомон приказом короля не только понижает социальный статус этого человека, но актуализирует такую мифологизированную сторону переодевания-преображения, как оборотничество: «– Женевьева! – кричали на улицах. <…> Обернись в мужчину обратно… Что тебе стоит?» [Там же, с. 404]. Обратное переодевание и обретение истинного пола произойдет лишь после смерти (см. пролог).
В романе об истории «секретной дипломатии» [Там же, с. 5] мотив переодевания проявляется на разных уровнях, однако наиболее полно он демонстрирует все свои особенности лишь в связи с образом де Еона. Тем не менее переодевание часто обретает политическую функцию, маркируя смену дипломатического статуса, например, Дугласа: «Тогда он был одет скромно, а сейчас – о боже! – каким франтом стал» [Там же, с. 87]. Или императрица Елизавета, которая, провожая в поход гренадер, предстает «в высоких ботфортах, при офицерском шарфе, в штанах и в треуголке с пышным плюмажем…» [Там же, с. 86]. Это переодевание не только причуда самой дочери Петра, но и определенный тактический ход, в котором переодевание играет роль отличительного знака в системе «свой – чужой». В этом смысле смена костюма с обычного, женского, на военный, мужской, характеризует решительность Елизаветы и её готовность к действиям (начало военной кампании). На уровне мотива переодевания возникает взаимосвязь данного эпизода с арестом предателя Апраксина, в результате действий которого русская армия оказалась в унизительном положении. Если Елизавета демонстрирует своим переодеванием решительность и стремится укрепить боевой дух армии, то покидающий армию фельдмаршал снимает мундир и облачается в «беличий халат» [Там же, с. 191], мечтая о тёплых и удобных покоях. Следует отметить, что в разгар событий, когда «Фридриха терзать надобно» [Там же, с. 146], Апраксин ждет, когда ему привезут двенадцать новых кафтанов. Таким образом, переодевание фельдмаршала, фактическое или потенциальное, подчёркивает внутреннее стремление подкупленного Апраксина снять с себя бремя ответственности и устраниться от исполнения обязанностей командующего.
Необходимо отметить возникающие в романе на уровне мотива переодевания сюжетные переклички: маскарадное переодевание, с которого началась карьера дипломата, стало ключевым в политической «карьере» как Елизаветы, так и Екатерины. Офицерский мундир на Елизавете – символ совершенного ею государственного переворота и связи с Петровской эпохой, поэтому данный костюм возникает не только как маскарадный, но и как политический знак. Для молодой Екатерины эти две функции – игровая, маскарадная и символико-политическая – пока слиты в одно целое, недаром первое предложение об участии в перевороте она делает послу Вильямсу на маскараде, переодетая в костюм «арлекина в пестром домино» [Там же, с. 94] (кстати, маскарадный костюм тоже мужской). Таким образом, актуализируется еще одна особенность женско-мужского переодевания: облачение женщины в мужской костюм поднимает ее социальный статус и позволяет взять на себя функции мужчины (смена гендерных приоритетов через переодевание).
Подведем итоги. В ходе анализа романа было выявлено, что мотив переодевания, возникающий в прологе в связи с судьбой главного героя, не становится доминантным для всего произведения, однако данный мотив представляется ключевым в сюжетной линии кавалера де Еона.
Рассмотрев эпизоды, связанные с мотивом переодевания, мы определили ряд его основных функций: характерологическая, сюжетообразующая, культурно-историческая, политическая (и как разновидности – дипломатическая, шпионская), психологическая. Выявленные нами функции не существуют изолированно, их взаимосвязи подчёркивают значимость исследуемого мотива в тексте.
Безусловно, мы не стремились всесторонне и полно проанализировать все присутствующие в романе примеры смены костюма, однако полагаем, что проведённое нами исследование наглядно демонстрирует перспективность изучения мотива переодевания в исторической прозе.
Список литературы Мотив переодевания в романе В. С. Пикуля "Пером и шпагой"
- Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века. М.: Наука: Восточная литература, 1993. 304 с.
- Луве де Кувре Ж.-Б. Любовные похождения шевалье де Фоблаза. М.: Захаров, 2008. 367 с.
- Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы: Сюжет и мотив в контексте традиции / Под ред. Е. К. Ромодановской. Новосибирск: Ин-т филологии СО РАН, 1998. Вып. 2. 268 с.
- Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы: Интерпретация художественного произведения: Сюжет и мотив / Отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2004. Вып. 6. 326 с.
- Пикуль В. С. Пером и шпагой: роман-хроника // Пикуль В. С. Собр. соч.: В 20 т. М.: Деловой центр, 1992. Т. 8. 528 с.
- Путилов Б. Н. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору: сб. ст. в память В. Я. Проппа. М.: Наука, 1975. С. 141-155.
- Силантьев И. В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 296 с.
- Сюжет и мотив в русской литературе ХХ-XXI вв.: сб. статей. СПб.: Ф-т филологии и искусств, 2007. 60 с.
- Сюжет, мотив, история: сб. науч. статей. Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Вып. 8. Новосибирск: Наука, 2009. 312 с.
- Тюпа В. И. Мотив в системе художественного целого // Силантьев И. В., Тюпа В. И., Шатин Ю. В. Мотивный анализ: уч. пособие. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2004. С. 171-211.
- Шатин Ю. В. Мотив и контекст // Роль традиции в литературной жизни эпохи. Сюжеты и мотивы. Новосибирск: Ин-т филологии СО РАН, 1994. С. 5-16.