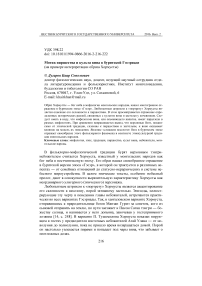Мотив пиршества и культа вина в бурятской Гэсэриаде (на примере интерпретации образа Хормусты)
Автор: Дугаров Баир Сономович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Образ Хормусты - бог неба в мифологии монгольских народов, нашел многогранное отражение в бурятском эпосе «Гэсэр». Любопытным штрихом к «портрету» Хормусты является описание его склонности к пиршествам. В этом просматривается отражение определенных исторических реалий, связанных с культом вина и застолья у кочевников. Следует иметь в виду, что мифологема вина, или опьяняющего напитка, имеет параллели в разных мифологиях. При сравнении напрашивается вывод, что верховные боги, независимо от этнической традиции, склонны к пиршествам и застольям, и вино оказывает влияние на модель их поведения. Явление «слишком веселого» бога в бурятском эпосе отражает своеобразие этого фольклорного феномена в контексте этнокультурной традиции монгольских народов.
Мифология, эпос, традиция, пиршество, культ вина, небожители, монгольские народы
Короткий адрес: https://sciup.org/148183349
IDR: 148183349 | УДК: 398.22 | DOI: 10.18101/1994-0866-2016-2-216-222
Текст научной статьи Мотив пиршества и культа вина в бурятской Гэсэриаде (на примере интерпретации образа Хормусты)
В фольклорно-мифологической традиции бурят верховным тэнгри-небожителем считается Хормуста, известный у монгольских народов как бог неба в постчингисовую эпоху. Его образ нашел своеобразное отражение в бурятской версии эпоса «Гэсэр», в которой он трактуется в различных аспектах ― от семейных отношений до статусно-иерархических в системе небесного мироустройства. В целом эпические тексты, особенно небесный пролог, дают в совокупности выразительную характеристику Хормусты как неординарного улигерного (эпического) персонажа.
Любопытным штрихом к «портрету» Хормусты является акцентирование его склонности к веселому, порой затяжному застолью. Эпизоды, иллюстрирующие эту черту в поведении главы небожителей, встречаются практически во всех вариантах Гэсэриады. Так, в хангаловском варианте Хормуста, отправившись к прародительнице богов Манзан Гурмэ за советом, кого из сыновей отправить на землю, по пути заезжает к Писон Саган тэнгри ― божеству солнца, и напивается у него допьяна, заночевав у гостеприимного хозяина [14, с. 248]. В варианте П. Тушемилова Хормуста показан пирующим в гостях у предводителя восточных небожителей Атай Улана ― от новолуния до полнолуния, пока не пришло время возвращаться домой. Порой он настолько увлекается пирами и попадает под чары вина, что забывает о неотложных делах.
Определенную роль вино играет и в развитии эпического сюжета, связанного с сыном Хормусты ― Гэсэром, героем одноименного эпоса. Например, в сцене встречи Алма Мэргэн ― жены Гэсэра, с его небесным старшим братом Заса Мэргэном последний угощает героиню арза-хорзо (молочной водкой разной крепости), приготовленной специально для нее прародительницей Манзан Гурмэ. Цель же заключается в том, чтобы «воодушевить» Алма Мэргэн на спасение Гэсэра, превращенного в осла, поскольку никто, кроме нее, не в состоянии это совершить. Сам этикет угощения вином выдержан в духе формульного описания данной церемонии, в котором обозначен существенный момент, характеризующий содержательную сторону встречи этих двух персонажей. В тексте повествуется: «Старший брат мужа, Заса Мэргэн, / стал складно рассказывать обо всем, что случилось с давней поры, / да так, что на плоском камне трава вырастала, / да так, что на чистой воде пенка образовалась» [1, с. 225–226].
Стало быть, вино выступает как действенное средство коммуникации между эпическими персонажами, благодаря чему создается особая атмосфера духовного общения, освященного традицией. И сам Гэсэр не раз демонстрирует свою богатырскую мощь в употреблении молочного архи ― горячительного напитка предков. Он же неизменно выказывает приверженность обычаям старины, собирая своих подданных на великий пир в ознаменование победы над противником. Причем описание празднества с гиперболизацией вина относится к числу общих мест в эпическом тексте.
Подобного рода примеры говорят о том, что как эпические герои, так и их небесные покровители во главе с Хормустой любят предаваться пирам и веселью. Последние, как отмечает М. Н. Хангалов [14, с. 237], делают это порой без определенной на то мотивации. Так, Хормуста нередко созывает небожителей к себе не по какому-либо особому поводу, а «для препровождения времени, поскольку в году слишком много свободных дней». Высокие гости собираются в белом, «высотой до небес, сверкающем, как стекло», ханском дворце, соответствующем статусу Хормусты как верховного небожителя, где сам хозяин восседает на восьминожном серебряном троне в главной из восьмидесяти восьми комнат, позолоченных изнутри. Перед дворцом, символизируя гостеприимство Хормусты, стоит ажурная серебряная коновязь ( баржагар мγнгэн сэргэ ) с девяноста девятью ответвлениями.
Примечательно, что существует поверие, связанное с затяжными пирами и гуляниями у богов. После обильного возлияния и утоления чревоугодия они предаются продолжительному сну, иной раз исчисляемому несколькими поколениями человеческой жизни. Бывает, что душа тэнгрия, не дождавшись его пробуждения, спускается на землю и рождается человеком, а потом снова возвращается на небо при пробуждении небожителя [14, с. 224].
Наиболее полная картина пиршества эпических богов предстает в пространном описании небесного праздника-надома (тэнгэриин найр зугаа) в молькинском варианте эпоса «Гэсэр» [2, с. 40–50]. В этом празднестве принимают участие западные и восточные небожители во главе с прародительницами Манзан Гурмэ и Маяс Хара. Красочно обрисованы перипетии трех мужских игрищ-состязаний (эрын гурбан наадан), куда входят борьба, стрельба из лука и конные скачки. Праздник завершается грандиозным пиром, который объединяет всех небожителей.
Празднество небожителей напоминает летнее обрядовое священнодействие ― тайлаган, который, по всей видимости, не случайно, в силу древности этой традиции, оказался в поле сакрализации небесного социума. Сказите-ли-мифотворцы по праву перенесли тайлаган в небесный пролог Гэсэриады, тем самым придав ему статус божественного праздника. Вместе с тем в пиршествах небожителей просматривается отражение определенных исторических реалий, связанных с культом вина и застолья у монгольских народов. Традиция пиров у степных кочевников сопровождалась особым этикетом, основанным на древних обычаях, которые неукоснительно соблюдались. Об этом свидетельствует пиршественный церемониал во времена Чингисхана и его наследников, согласно которому место на пиру, очередность получения пиршественной чаши и произнесения здравицы, право на угощение чарой-оток строго регламентировались исходя из общественного положения участников застолья [4, с. 58–59].
Не случайно старинные источники указывают, что монголы «находят радость в питье и пиршестве» [7, с. 75]. Мудрое отношение монголов к вину как важному элементу в ощущении полноты человеческого бытия демонстрирует «Беседа мальчика-сироты с девятью орлуками ― сподвижниками Чингисхана» ― произведение, основанное на фольклорных источниках и содержащее подлинные образцы народной поэзии. Любопытно, что автором здесь приводятся разные, порой взаимоисключающие мнения о целесообразности питья вина, высказываемые девятью орлуками. Наиболее разумную точку зрения в отношении вина выражает мальчик-сирота ― центральный персонаж повествования. Он полагает, что проблема не в вине, а в его злоупотреблении. Если пить в умеренных пределах и по хорошему поводу, то тогда это «наслаждение и удовольствие». Чингисхан, приверженец «золотой середины», поддерживает мальчика в его споре с орлуками, дает ему в знак поощрения «выпить глоток вина рашияны , подобной меду», и приближает его к себе [6, с. 166–173].
Более того, в фольклорной традиции изобретение вина приписывается Чингисхану. Согласно преданию, расцвеченному народной фантазией, придуманное им вино состоит из девяти эрдэни-драгоценностей. В зависимости от того, какое эрдэни сильнее действует на человека, опьяневший делается злым и агрессивным как бешеная собака или глупым как баран или же становится легкомысленным и падким до женщин, а может даже сгореть от вина и умереть. Слепые становятся зрячими, безрукий готов ударить соседа, безногий растоптать неугодного ― таковы метаморфозы, вызываемые чарами вина [15, с. 91–92]. Тем не менее, как гласит легенда, изобретенное Чингисханом вино, или молочное архи, пришлось по душе его подданным ― кочевникам, и они стали его так усердно гнать и пить, что монгольский хан вынужден был издать указ, запрещающий изготовление и употребление архи. Но узнав, что степняки, несмотря на августейший запрет, продолжают по-прежнему «почитать» этот горячительный напиток и при этом совершают возлияние духам-хранителям Чингисхана как своим небесным благодетелям, владыка монголов отменил свой указ [10, с. 20–21].
Примечательно, что между Чингисханом и Хормустой как фольклорномифологическими персонажами просматривается некоторая взаимосвязь на почве вина, отмеченная в летописной традиции. В «Алтан тобчи» говорится, что «могущественный Хормуста тэнгри» пожаловал Чингисхану «за прежние добродетельные деяния драгоценную нефритовую чашу, наполненную вином рашияны ». Эта чаша с вином воспринимается монгольским владыкой как божественный дар, преподнесенный ему в знак его избранничества. Сам он с удовольствием вкушает вина рашияны и, разгоряченный от хмельного напитка, рассуждает о смысле пиров, их пользе и назначении [6, с. 165–166, 173]. В тексте «Алтан тобчи» приводится ряд примеров, показывающих благосклонное отношение Чингисхана к пиршествам и его участие в них, что также обнаруживает определенное сходство с образом Хормусты в бурятской Гэсэриаде.
Следует иметь в виду, что мифологема вина, или опьяняющего напитка, имеет широкие параллели в разных мифологиях. Вино является не только эффективным средством веселья или праздника, но и «основным героем» последнего, как показывают описания обильных возлияний олимпийских и других представителей «племени бессмертных». Как отмечают исследователи, существует особая связь между горячительным напитком и богами-громовержцами. В этом отношении близкий пример являет Индра, совершающий героические, порой опрометчивые действия в состоянии опьянения сомой [12, с. 257; 11, с. 22]. Ср. бурятский бог дождя Хуран-нойон ― мифологический двойник Хормусты, иной раз под сильным воздействием вина забывает о своих обязанностях, отчего на земле наступает засуха [9, с. 34]. Ведийские тексты демонстрируют пристрастие к хмельной соме не только Индры, но и других богов. Как говорится в одном из гимнов, они, когда устраивается возлияние сомы, спешат принять в нем участие, и «все хмелеют» [13, с. 71]. Мотив вина встречается и в буддийской мифологии ― в описании траястринсы, где упоминается лиана асавати, приносящая раз в тысячу лет плоды. Они содержат божественный хмельной напиток, опьянение от которого продолжается четыре месяца [3, с. 524].
При сравнении Хормусты с греческими и индийскими божествами напрашивается вывод, что верховные боги, независимо от этнической традиции, склонны к пиршествам и застольям и вино оказывает влияние на модель их поведения. Зачастую боги, всей своей властью гарантирующие моральное поведение смертных, живут в атмосфере постоянных нарушений нравственного порядка. Возможно, в этом проявляется принцип необузданной свободы богов и людей, характерный для ряда мифологий, в частности греческой. С другой стороны, здесь содержатся элементы бурлеска, присущего как универсальное явление многим мифологическим традициям.
В связи с этим можно допустить, что модель поведения Хормусты в небесном прологе Гэсэриады в ряде случаев скорее похожа на пародию его образа, спровоцированную поздней адаптацией данного теологического персонажа в бурятской религиозно-мифологической традиции. Это наглядно обнаруживается в эхирит-булагатской версии бурятской Гэсэриады, где образ Хормусты из-за его склонности «к выпивке» оказывается явно приниженным. Согласно сюжету он как бы самоустраняется от условленного с главой восточных тэнгриев поединка, загуляв у прародительницы Манзан Гурмэ, к которой отправился посоветоваться. Дает о себе знать Хормуста лишь только на совете богов, где он появляется с большого похмелья в тот момент, когда решался вопрос об отправлении его сына Гэсэра для уничтожения земных порождений Атай Улана, которого тот в отсутствие отца низверг на землю. Та же самая «неодобрительная» нотка по отношению к Хор-мусте и его «забывчивости», вызванной той же причиной, что и в приведенном примере, прослеживается в унгинской версии (вариант П. Дмитриева), где он, загостив у девяти шаманствующих тэнгриев ― родственников по материнской линии, пропускает назначенный срок поединка с Атай Уланом.
Действительно, изображение Хормусты из-за его приверженности к пирам и застолью не лишено некоторой «критической» направленности, как подчеркивает Н. О. Шаракшинова [16, с. 23]. Но, на наш взгляд, подобная трактовка поведения Хормусты имеет скорее всего иронический характер. Ирония, как известно, вносила в возвышенные нарративы трагикомическую ноту, придавая богам человеческие страсти и слабости, что не могло не привлекать людей. Именно такого рода сюжеты являются между тем «сильной стороной мифологии как бессознательно художественного творчества народов» [5, с. 141–142]. Гетерогенность свойств и признаков рассматриваемого персонажа проявляется как «продуктивное начало» [8, с. 109] в формировании представления о нем в сюжетной динамике.
Говоря же о «морали мифов», следует иметь в виду определенное противоречие в трактовке этого понятия на примере многих мифологических существ высшего ранга. Образ Хормусты в творческой интерпретации бурятских сказителей подтверждает правомерность данного положения. Явление «слишком веселого» бога в бурятской мифологии, имеющего евразийские параллели, не поддается однозначной оценке и выявляет своеобразие этого улигерного феномена в контексте этнокультурной традиции монгольских народов.
Список литературы Мотив пиршества и культа вина в бурятской Гэсэриаде (на примере интерпретации образа Хормусты)
- Абай Гэсэр/вступ. ст., подгот. текста, пер. и коммент. А. И. Уланова. -Улан-Удэ, 1960. -314 с.
- Абай Гэсэр Богдо хаан/зап. и сост. С. П. Балдаева, подгот. текста и предисл. М. И. Тулохонова, Д. Д. Гомбоин. -Улан-Удэ, 1995. -521 с.
- Волкова О. Ф. Траястринса//Мифы народов мира. -М., 1992. -Т. 2. -С. 524.
- Крамаровский М. Г. Джучидский пир//Государственный Эрмитаж. Отделу Востока 80 лет. -СПб., 2000. -С. 56-60.
- Лифшиц М. А. Критические заметки к современной теории мифа//Вопросы философии. -1973. -№ 10. -С. 139-159.
- Лубсан Данзан. Алтан Тобчи/пер. с монг., введ., коммент. и прил. Н. П. Шастиной. -М., 1973. -439 с.
- Мэн-да бэй-лу/пер. с кит., введ., коммент. и прил. Н. Ц. Мункуева. -М., 1975. -286 с.
- Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских народов. -М., 1984. -310 с.
- Подгорбунский И. А. Из мифологии бурят и монголов шаманистов//Сибирский вестник, приложение к «Восточному обозрению». -Иркутск: тип. К. И. Витковской, 1894. -№ 4. -C. 28-40.
- Степные были и небылицы/сост., пер. Х. Мэргэн. -Улан-Удэ, 2010. -334 с.
- Темкин Э. Н., Эрман В. Г. Мифы Древней Индии. -М., 1982. -270 с.
- Топоров В. Н. Опьяняющий напиток//Мифы народов мира.-М., 1992. -Т. 2. -С. 256-257.
- Эрман В. Г. Очерк истории ведийской литературы. -М., 1980. -232 с.
- Хангалов М. Н. Собрание сочинений.-Улан-Удэ, 1959. -Т. 2. -444 с.
- Хангалов М. Н. Собрание сочинений. -Улан-Удэ, 1960. -Т. 3. -421 с.
- Шаракшинова Н. О. Фантастические образы врагов в героическом эпосе бурят//Фольклор народов РСФСР. -Уфа, 1977. -С. 19-24.