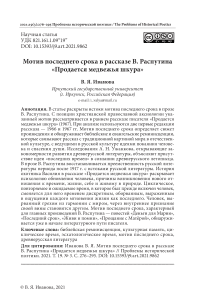Мотив последнего срока в рассказе В. Распутина "Продается медвежья шкура"
Автор: Иванова Валентина Яковлевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрыты истоки мотива последнего срока в прозе В. Распутина. С позиции христианской православной аксиологии указанный мотив рассматривается в раннем рассказе писателя «Продается медвежья шкура» (1967). При анализе используются две первые редакции рассказа - 1966 и 1967 гг. Мотив последнего срока определяет сюжет произведения и обнаруживает библейские и евангельские реминисценции, которые связывают рассказ с традиционной картиной мира в отечественной культуре, с ведущими в русской культуре идеями покаяния человека и спасения души. Исследования А. Н. Ужанкова, открывающие закономерности развития древнерусской литературы, объясняют присутствие идеи «последних времен» в сознании древнерусского летописца. В прозе В. Распутина восстанавливается преемственность русской литературы периода после 1917 г. с истоками русской литературы. История охотника Василия в рассказе «Продается медвежья шкура» раскрывает психологию обновления человека, причины возникновения нового отношения к времени, жизни, себе и живому в природе. Циклическое, повторяемое и ожидаемое время, в которое был прежде включен человек, сменяется для него временем дискретным, оборванным, выраженным в ощущении каждого мгновения жизни как последнего. Человек, вырванный грехом из гармонии с миром через внутреннее признание своей вины, становится другим. Мотив последнего срока, характерный для главных произведений В. Распутина - повестей «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» - обнаруживается уже в начале литературного пути писателя.
Библейская реминисценция, культурная память, циклическое время, эсхатологическое время, мотив последнего срока, древнерусская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/147236171
IDR: 147236171 | УДК: 821.161.1.09“19” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9862
Текст научной статьи Мотив последнего срока в рассказе В. Распутина "Продается медвежья шкура"
М отив последнего срока как характерный для прозы
В. Распутина выделяли А. А. Дырдин [Дырдин, 1982], И. А. Митрофанова [Митрофанова]. «Неизменно в поле зрения В. Распутина — короткий отрезок времени, самая крайняя точка на линии человеческих судеб, картины “последнего срока”», — отмечал исследователь [Дырдин, 1982: 643]. И. А. Митрофанова определяла указанный мотив как организующий и ведущий в повести «Прощание с Матёрой» и в других произведениях прозаика: «…мотив последнего времени: последнего лета, дня, сенокоса, самовара, последней уборки урожая, организующий идею конечных времен» [Митрофанова: 9]. Опираясь на православные традиции в русской культуре, И. А. Митрофанова анализирует в прозе писателя идеи эсхатологии мира и человека, темы Апокалипсиса и делает выводы о том, что основой нравственно-этических ценностей В. Распутина является христианское понятие о грехе и наказании за него. Позднее эсхатологические мотивы в повестях писателя рассматривали Н. С. Цветова [Цветова], И. Л. Бражников [Бражников: 48–69], В. Я. Иванова [Иванова: 357–363], О. Ю. Юрьева [Юрьева: 289–313] и другие. Истокам возникновения мотива последнего срока в прозе В. Распутина посвящена данная статья.
Для направления изучения важно следующее утверждение А. А. Дырдина о творчестве В. Распутина: «Обращение к темам, составляющим ядро христианско-православного взгляда на личность, ведет к глубинным пластам мировоззрения художника» [Дырдин, 2016: 202–203]. Аксиологический аспект изучения русской литературы, основанный на христианско-православной традиции, представлен в отечественном литературоведении концепциями В. В. Зеньковского [Зеньковский], М. М. Дунаева [Дунаев], И. А. Есаулова [Есаулов, 1995; 2004; 2017], В. Н. Захарова [Захаров, 1991; 1994; 1998; 2001]. И. А. Есаулов, характеризуя проблемы состояния современного литературоведения, отмечает необходимость введения новых категорий для переосмысления русской литературы. «Итак, понятие “христианской традиции” является фундаментом подобных категорий филологического понимания, обращенного к русской классике. Присутствие в произведениях культурной памяти может быть определено как традиция. Осмысление в художественном творчестве христианской сущности человека и христианской картины мира, имеющее трансисторический характер, свидетельствует о собственно христианской традиции. Формы же этого присутствия могут быть весьма различными и выявляются при помощи тех категорий понимания, которые начинает осваивать русская филология», — пишет исследователь [Есаулов, 2017: 23]. Категории соборности, пасхальности, христоцентризма, введенные в отечественную филологию И. А. Есауловым, библейские мотивы, реминисценции, сюжеты помогают раскрыть глубинные пласты смыслов в русской литературе.
В. К. Сигов рассматривал раннее творчество В. Распутина с позиции характеристики художественного времени и отмечал, что рассказ «Продается медвежья шкура» «примечателен тем, что временные отсчеты стали здесь чуть ли не главным средством анализа психологии человека» [Сигов: 27]. Исследователь делает следующие выводы об особенностях времени в творчестве писателя: «Постижение диалектики воздействия времени на человека и человека на время было одной из важнейших задач Распутина с первых шагов его писательского пути» [Сигов: 46].
Рассказ «Продается медвежья шкура», один из первых рассказов писателя, вначале входил в сборник очерков и рассказов о Тофаларии «Край возле самого неба» (1966). Командировки в Тофаларию с 1961 г. открыли для журналиста В. Распутина новый, особый мир — мир согласия человека и природы. Рубежное значение тофаларских очерков в становлении писателя отметил А. А. Дырдин: «Не все равноценно в ранней прозе В. Распутина. Но среди двух десятков рассказов и очерков были и такие, что говорили о рождении писателя. Это, прежде всего, произведения тофаларского цикла. В истоках своего пути в большую литературу В. Распутин стал первооткрывателем заповедного уголка Саян» [Дырдин, 1982: 641].
Гармонию человека и мира, которую В. Распутин принял как образ жизни от своих предков, пришедших в Сибирь с Русского Севера, архангельских и мурманских краев, и восприняла его душа, прикипев к дивному краю. «А я, влюбившийся с тех пор в Саяны (снятся и сейчас) стал постоянно ездить в “оленный край” — в Тофаларию на иркутской стороне Саян — и писал восторженные не то очерки, не то рассказы о поразившей меня красоте гор и живущем там маленьком добром народце», — признавался шестидесятилетний В. Распутин (Распутин, 1998). Но и в дни командировок было то же чувство любви: «…Я трижды был в Тофаларии. Мне снова хочется в Тофаларию» (Распутин, 1963). Молодой журналист обрел в тофаларских командировках свой стиль, мелодию, героя и особое время, которое радикально отличалось от маршевого времени ударных комсомольских строек в других очерках. Ритмы строительства ЛЭП, новых городов, железных дорог, электростанций постепенно оставались в прошлом. Рассказ о старухе-тофаларке «Ветер ищет тебя» произвел на В. А. Чивилихина, руководителя группы прозы на Читинском семинаре молодых писателей Сибири и Дальнего Востока (2–9 сентября 1965 г.), особое впечатление. Именно его еще до начала форума ночью по телефону он продиктовал для «Комсомольской правды».
Мотив последнего срока как евангельская реминисценция в повести В. Распутина «Последний срок» (1970) появился сначала в его первой повести «Деньги для Марии» (1967). Но истоки мотива обнаруживаются и раньше — в рассказе «Продается медвежья шкура» (1966). В марте 1966 г. молодой автор решительно уходит из журналистики, прервав карьеру спецкора областной газеты «Красноярский комсомолец», чтобы посвятить себя литературному творчеству. Это было ответственное решение для молодой семьи, но жена Светлана поддержала выбор мужа ( Жить в полную силу : 34–35). В марте 1966 г. В. Распутин вместе с семьей возвращается в Иркутск. Он еще не принят в Союз писателей России, для этого ему необходимо издать сборник рассказов. Богатейшие наблюдения, полученные в многолетних поездках по Сибири, стали основой для первых рассказов В. Распутина. И первыми среди них были впечатления о Тофаларии и ее народе.
Острое восприятие времени в ожидании наказания как сюжетный мотив рассказа «Продается медвежья шкура» связывает раннее творчество В. Распутина с культурной памятью народа, с эсхатологией времени в христианском сознании ( «e^Xato^, П, ov 1. прил . 1) последний; крайний; <..>; 2. ср. р. конец; край; <…>; 3. нар . напоследок, наконец <…>» ( Греческо-русский словарь...: 93) ) . Ожидание конца времени с Божьим судом, Вторым Пришествием Иисуса Христа было основой миропонимания наших предков с периода Крещения Древней Руси до XIX в. Летописи, повествующие о делах князей, А. Н. Ужанков называет «совестными книгами», поскольку их главной задачей до 1492 г., подсчитанного как конец света, было описание грехов человека, покаяние перед Высшим судом в надежде на прощение и спасение. «Но и летопись имела направленность на Страшный суд, будучи “совестной книгой” человеческих деяний. <…> То есть, сквозь призму отношения к категории времени проступает проблема греховности человеческой жизни, <…> постоянно присутствующая в древнерусской литературе», — отмечает исследователь [Ужан-ков: 208–209]. Понятие «последних времен» было ключевым в сознании русского человека в течение нескольких веков. В XVI в., после наступления ожидаемой даты, понятие укрепилось новой трактовкой, определившей историческое и культурное развитие русского государства. По словам А. Н. Ужанкова, «в осмыслении “последних времен” и формируется понятие русского народа как нового исторического народа — православного, избранного Богом на “последнее время”» [Ужанков: 291].
Идея покаяния и ответа за свои дела на предстоящем Божьем суде была активна в сознании человека до XX в. Она была основой нравственного отношения к миру, о чем свидетельствует русская литература, художественные произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Пришвина и многих других писателей. Утверждение А. Н. Ужанкова: «Отношение православного человека ко времени, как и к пространству, в XI–XII вв. было религиозно-нравственным, сопряженным с ожиданием конца мира, то есть земного времени, и наступлением вечности — “жизни нетленной”, которой удостаиваются только души праведников» [Ужанков: 204] — может быть отнесено и к восприятию времени русским человеком XIX в. «Интуицию совести», связанную с духом покаяния в православном религиозном опыте, вслед за А. А. Ухтомским, В. Е. Хализев относит к одной из национальных духовно-нравственных доминант [Хализев]. Выводы ученого опираются на закон преемственности и наследования в отечественной культуре. На осознание последнего срока в душе человека обращал внимание богослов XIX в., святитель Игнатий (Брянчанинов): «Живи каждый день так, как будто ты должен каждый день умереть. Если можно умереть всякий час, то всякий час и должно быть готовым к смерти» (цит. по: (Ларец мудрости духовной: 62)). Являясь доминантой национального сознания почти в течение тысячелетия, идея «последних времен», ожидания Божьего суда и наказания за грехи в истории человечества и в судьбе каждого человека сохранилась в культурной памяти и после 1917 г.
Мотив последнего срока в судьбе одного человека получил художественное воплощение в истории медвежатника Василия в рассказе В. Распутина «Продается медвежья шкура». Охотник уничтожает медвежью семью. Преследование медведем, стремящимся наказать человека, лежит в основе сюжета произведения. Необычный медведь с большим белым пятном на груди воплощает справедливость: история получает притчевый характер. Образ медведя реалистичен в ситуации, которая, скорее всего, произошла на самом деле, и представлен автором возвышенно: зверь предан своей подруге. Мотив последнего времени для конкретного человека, охотника Василия, выведен на поверхность, что неоднократно лексически подчеркивается: «Последнее мгновение в его жизни…», «…и последнее мгновение…» (Распутин, 1967: 49), «…последнее, что могло бы остаться в его памяти», «…казалось, мгновение растянулось, но вот-вот оно может оборваться…» (Распутин, 1967: 48), «…это было мгновение, вышедшее из-под его контроля, это мгновение контролировал страх», «…в каждом часе 60 минут, в каждой минуте 60 секунд, всего-навсего 60 мгновений, и каждое из этих мгновений могло быть последним» (Распутин, 1967: 51), «…и через мгновение раздастся грохот» (Распутин, 1967: 53), «Несколько мгновений они стояли друг против друга, словно не могли договориться» (Распутин, 1967: 54).
Восприятие времени человеком в начале рассказа противопоставлено острому ощущению каждого мгновения после встречи с медведем. До этого время для главного героя имело неспешное течение, было чем-то обязательным и постоянным:
«…зиму, это бесконечно белое время, нельзя было ни обойти, ни объехать. Ее ветры и снега, как часовая и минутная стрелки, следовали друг за другом, то сходясь, то снова расходясь над горами — едва заметными цифрами на белом циферблате» ( Распутин, 1966 : 44).
Интересно, что прежнее, природное время для охотника было окрашено белым цветом. Зима, как самое длительное время в жизни сибиряка в краю тофов, воплощает собой образ часов. Резкую смену отношения ко времени осознает сам охотник, жалея о минувшем:
«…время снова начинает свой ровный, постоянный ход, принимая его в свои владения, в которых бывает день и ночь, зима и лето, а год состоит из двенадцати месяцев» ( Распутин, 1967 : 49).
Циклическое повторяемое и длительное время резко сменяется, сжимается до мгновения. При этом мгновения, воспринимаемые человеком как последние, противопоставлены «часам», «месяцам» жизни медведя: «…как часами он стоял где-нибудь недалеко от жилья, чтобы увидеть его обитателей, как кружил около поселка…» ( Распутин, 1967 : 53), «За месяцы преследования он научился…» ( Распутин, 1967 : 54). Мотив последнего времени стал ощутимым для главного героя лишь в ситуации неотступного преследования медведем, стремящимся наказать человека за нарушение своей жизни.
Человек чувствует справедливость этих преследований, скрывается, уезжает подальше, прячется в доме. Действия медведя получают значение неумолимого закона, перед действием которого человек слаб. Для Василия медведь «перестал быть медведем в обычном смысле этого слова, он стал преследователем, что было для него главным, а все остальное он делал только для того, чтобы сохранить в себе преследователя» ( Распутин, 1967 : 53).
Из сильного, умелого и опытного, не знающего неудач охотника, Василий превращается в беспомощного, несвободного, лишенного занятия и работы, зависимого от бдительности окружающих человека:
«Он, таежник, теперь остался без тайги. Его заперли в четырех стенах дома, в трех улицах поселка, его лишили звания охотника, ему оставили только ту необходимую норму воздуха, чтобы он не задохнулся» ( Распутин, 1967 : 53).
Время природное, в ритм которого раньше был включен человек, сменилось на дискретное, разделенное на мгновения. Цельность времени оказалась отмененной проявлением греха, убийства медведицы, — нарушением закона продолжения жизни. Время восстанавливается вместе с ощущением избавления от гибели, когда Василий уезжает за сто километров от дома на работу в другое стадо. Человек опять включен в природные ритмы, их ожидаемый и радостный круговорот:
«Зима кончилась, и ветры, свергая ее, становились все сильней и сильней, они уже больше не мешали солнцу и появлялись вместе. <…> Потом наступила весна — новая страна с новыми восходами и закатами, с другим небом и другими нравами. В горах чувствовалось радостное волнение. <…> И вдруг в один прекрасный день все это рухнуло» ( Распутин, 1967 : 52).
Метафорически из первозданного рая, гармонии с природой и незаметного течения времени через грех человек попадает в эсхатологическое линейное время, с проживанием каждого мгновения и ожиданием конца, срок которого неизвестен. Время для Василия сжимается, сворачивается в секунды, мгновения.
Раньше Василий убивал медведей, и мгновения были осмыслены им как условие прибыльного дела. Автор рассказа выделяет в тексте такое восприятие времени:
«Для этого нужны десятые доли секунды, чтобы нажать на спуск, почувствовать удар в плечо, а потом медленно, снова держа палец на спуске, идти к вздрагивающей, словно рыдающей туше» ( Распутин, 1967 : 47).
Отчужденный от времени, человек отчужден и от сочувствия к живому, воспринимая отстраненно «рыдания», гибель живого как выгодный товар. Мотив свернутого времени для животного выражен в начале рассказа. Для человека меткий выстрел становился триумфом, для медведя — последними мгновениями жизни: «…и начало схватки со зверем почти сразу же переходило в конец» ( Распутин, 1967 : 47). Это обрыв времени живого существа, ставшего добычей охотника. Но отмеренные для медведя-товара секунды теперь становятся секундами жизни самого охотника. Его время сокращается до мгновения и при этом парадоксально растягивается в ожидании последнего срока:
«Но на этот раз начало было только началом, за которым последовало долгое и опасное продолжение» ( Распутин, 1967 : 47).
Примечательно, что в первой публикации рассказа (1966) мотив начала и конца был первой фразой в тексте:
«Раньше начало почти сразу же переходило в конец» ( Распутин, 1966 : 43).
Затем фраза повторялась еще раз после описания мастерства охотника-медвежатника — во втором варианте рассказа (1967) осталась только она. Очевидно, что мотив соединения, смыкания начала и конца был важен для автора.
«Начало» и «конец» — ключевые категории эсхатологического времени в христианской картине мира. В православном богословии традиционно принято следующее понимание времени: «…В. (здесь и далее «время». — В. И.) как творение Божие подчинено домостроительству спасения и своими границами имеет начало и конец мира; в этом конечном временном интервале осуществляется земная история человечества» (Время: 517). Важно также и то, что «восприятие В. в НЗ (Новом Завете. — В. И.) эсхатологично, т. е. проникнуто ожиданием конца истории, ибо человечество мучится, ожидая искупления <…>, и это “время близко” (Лк. 21:8; Откр. 1:3)» (Время: 520). В Новом Завете указано, что человечеству не дано знать наступление последнего срока. О «последних днях» в Евангелии от Марка написано: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32) (Библия: 1093). О том же в Деяниях апостолов: «Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти <…>» (Деян. 1:7) (Библия: 1162).
Время, пережитое через ощущение последнего мгновения в жизни и оставшееся таким до последнего поединка с медведем, осознается Василием как свое. В ситуации преследования поменялись не только роли охотника и добычи — поменялось отношение человека ко времени: оно стало теми секундами жизни, которые охотник когда-то отсчитывал для добычи. Распутинское сочувствие ко всему живому отвергает прагматический взгляд на природу, использование ее как товара и прибыли. Этот редкий человеческий дар вчувствования молодого автора в ощущения всего живого, сострадания ему, а также умение передать это словами обнаруживается в очерках иркутского периода (1957–1962).
В ожидании наказания охотник испытывает страх, ранее не ведомый матерому медвежатнику:
«Раньше он не знал, что такое страх <…> Там, наедине с медведем, он искал в себе силы, способные уничтожить страх, но их не было, словно и его самого уже не было — он забыл сказать самому себе, куда он ушел и что с ним сталось» ( Распутин, 1967 : 50).
В этом раннем рассказе проявляется характерное для дальнейшей прозы писателя особое художественное время, как бы вбирающее в себя сразу прошлое, настоящее, будущее. Человек ощущает себя, словно бы вне времени, не здесь и одновременно здесь, воспринимая пространство и время как инобытие. Ощущение страха Василия нарастает. И это выражается по-особому: самодовольный и уверенный охотник меняет мелкокалиберную винтовку тозовку на карабин:
«Однажды он со стыдом обнаружил, что идет с карабином за водой — до речки было всего каких-нибудь двадцать шагов» ( Распутин, 1967 : 51).
Распутин описывает состояние страха главного героя метафорически:
«Он успокаивался, но ненадолго. Потом опять накатывались страхи, и все в нем ломалось, вся крепость, построенная накануне, рушилась, и он, посрамленный, ходил среди ее развалин <…> Василий решил уехать. Он устал от страха и тревог, от необходимости подавлять их усилием воли — не один раз, выходя из зимовья, он чувствовал себя жертвой, которую выманивают для расправы» (Распутин, 1967: 51).
Страх сначала гонит человека прочь из дома, и когда это не помогает, запирает внутри. Мотив ожидания конца жизни как наказания за грехи, «память смертная» в православной аскетике — сюжетообразующие в рассказе. Охотник не знает срока, когда его настигнет суд природы в образе медведя с белым пятном на груди.
Возвращение медведя в свои места описано лаконично, одним словом и звучит как приговор для охотника: «Пришел…» ( Распутин, 1967 : 54). Оно созвучно с постоянными мыслями Василия: «Нашел, нашел, нашел» ( Распутин, 1967 : 53). Приход медведя указывает границу последнего срока, приближение наказания. Наступление срока принимается человеком как должное и закономерное:
«Он неторопливо оделся, положил в карман кусок черного хлеба. В его душе не было ничего, только пустота, и он не мог понять, боится или нет. За ним, было, увязалась собака, но он прогнал ее» ( Распутин, 1967 : 54).
Неторопливость движений выдает готовность Василия принять неизбежное, черный кусок хлеба взят как знак конечного. Собака, которая когда-то спасла жизнь охотнику при столкновении с медведем, уже не нужна в том поединке, который после избавления от гибели, пережитых страхов и непрерывного ожидания конца своей жизни является чем-то большим, чем охота. Опустошенность души — свидетельство надмирности, сгорания страстей, переживаний, перехода в состояние отстранения от обыденного. Произошло то, что выражено в словах святителя Игнатия (Брянчанинова): «Думай, что умрешь сегодня или завтра: тогда вся суета исчезнет из сердца твоего» ( цит. по: ( Ларец мудрости духовной : 59) ) .
Выйдя на поединок со зверем, охотник стал другим. Его состояние автор описывает так:
«Ни радости, ни удовлетворения он не чувствовал. <…> Он победитель, сидел рядом с медведем и казался себе убийцей. А медведь лежал рядом с ним и, наверное, даже не знал, что его убили» ( Распутин, 1967 : 54).
Человек не испытывает «ни радости, ни удовлетворения», ни прежнего довольства собой, любования своими меткостью и силой, своим превосходством над животным. Прежде «довольный, он долго ходил возле убитого зверя» ( Распутин, 1967 : 47). Теперь он неподвижно сидит возле него, безучастный и отстраненный от содеянного. И в его руках не тозовка, с которой он прежде, красуясь, рисковал, а карабин — знак страха за свою жизнь. Остро ощущая последнее мгновение другого существа, он теперь сопричастен с живым вокруг себя. А потому не чувствует себя победителем, осознавая и признавая грех уничтожения. Покаяние главного героя скрыто от читателя за сюжетом рассказа, но оно как бы само собой разумеется — в изменении отношения охотника к своей «добыче» как к себе самому. Василий перестает быть охотником. Человек видит в убитом медведе живое существо, не только равное себе, но и превосходящее в верности, мужестве, настойчивости, терпении и справедливости. Медведь стал укором, судом — воплощением совести человека.
Финал рассказа «Продается медвежья шкура» — ситуацию продажи шкуры — В. К. Сигов определял как слабый. Исследователь дал ему следующую характеристику: «Это высказывание, носящее характер риторической фигуры и в общем-то малосодержательное, оказавшись в конце рассказа, размывает его, уводит от основной мысли. Чувствуется, что сам автор был неудовлетворен таким финалом и в позднейшем издании перенес выделенный абзац в начало рассказа» (речь идет о финале рассказа, выделенном автором в тексте графически, и в первых двух публикациях (1966, 1967) находящемся в конце произведения. — В. И .) [Сигов: 27]. Не согласимся с таким мнением. Финал был дорог автору, он сохранил его неизменным во второй редакции (1967). Ситуация в конце рассказа возвращает читателя к началу и, на первый взгляд, замыкает кольцо композиции. Но композиция все-таки разомкнута: «зеркальное» отражение начала не является зеркальным.
Нарушен цикл времени, его повторяемость в жизни главного героя. Линейное развитие времени утверждает необратимость душевных перемен в человеке. В финале рассказа, как и в начале, — та же добыча, та же медвежья шкура, те же туристы. Но шкура перестает быть товаром. Ситуация продажи вынуждена: нет цели получить прибыль. Молчание при продаже выдает безразличие «продавца». Грамматически отсутствие охотника-продавца выражено в безличной форме глагола в тексте. «Продается» — в первом предложении, «продается» — в последнем предложении финала. Слова типичного объявления о продаже контрастны глубине духовных прозрений человека. В начале рассказа охотник максимально активен:
«Шкуры он продавал туристам, причем любил рассказывать, как ему достался медведь, чтобы туристы не просто топтали шкуры в своих городских квартирах, но и относились к ним с должным уважением» ( Распутин, 1967 : 47).
«Должное уважение» относилось бы не столько к вещи, медвежьей шкуре, сколько к охотнику, добывшему ее, что укрепляло его тщеславие. Говорливость охотника в начале рассказа противопоставлена его молчанию в конце.
Василий как участник продажи шкуры в конце произведения отсутствует, зато появляются туристы, дающие оценку результату его охоты. Туристы в финале «заговорили». И их оценка унизительна для опытного медвежатника, каким был Василий. Она отрицает его талант, мастерство. Образы туристов не конкретизированы, представлены через эмоции («недовольно сморщился», «возмутился») и через оценку. Это диалог, в котором присутствуют только ответные реплики. Автор выделяет две основные характеристики восприятия медвежьей шкуры покупателями: «Пятно на ней какое-то…», «Да она вся дырявая» (Распутин, 1967: 55). Медвежья шкура с такими качествами перестает быть товаром. Изменился Василий, он не участвует в том, ради чего убил медведя. Но неизменным остался «турист», все также приценивающийся к товару. Турист по-прежнему отчужден от природы, он — потребитель живого как вещи. Для Василия медвежья шкура стала чем-то большим: теперь она — знак его преображения. Можно предположить, что душевные перемены Василия более выразительны благодаря контрастному сопоставлению главного героя с туристами, которые остались прежними.
В первой публикации, в сборнике «Край возле самого неба» (1966), и во второй, в сборнике «Человек с этого света» (1967), сцена продажи медвежьей шкуры неизменно завершает рассказ, объясняя название произведения. Автор оставил финал неизменным во втором издании. Зато в начале рассказа отсутствуют описание мастерства медвежатника, его умения, а также сравнение охоты с пиром, с питьем вина, водки и описание чувства упоения, испытываемого Василием от охоты. Сравнение с пиром в первой редакции рассказа развернуто в микросюжет, вплоть до описания оплаты за застолье, и граница изображения «пира» и охоты почти стирается.
«Он всегда ходил с тозовкой, чтобы было легче, а значит, почти всегда рисковал — всякий раз ему только-только хватало денег, чтобы там, за столом, расплатиться за пир. От водки слегка кружилась голова. Он не позволял себе пить много — это было бы опасно» ( Распутин, 1966 : 44).
Сравнение с ресторанным застольем было чуждо для таежного жителя, оно отдаляло читателя от восприятия образа жизни главного героя и особенностей его характера и, вероятно, поэтому было убрано. Вычеркнув из текста физиологическое восприятие охоты, автор сосредоточил внимание читателя на духовном измерении — на обновлении человека.
Таким образом, в раннем рассказе Распутина «Продается медвежья шкура» раскрыта психология человека, совершившего грех и мучительно ожидающего наказания, справедливость которого он понимает. Внутри истории о тофаларском охотнике обнаруживается библейская реминисценция о первозданном грехопадении и изгнании из рая. Неразделимость, цельность и неизмеримость вечности раздробились на время, которое для изгнанных из рая сократилось, сжалось до конечного периода земной жизни. В рассказе Распутина человек совершает грех из-за самодовольства, упоения собственной силой, из чувства превосходства над медведем, жизнь которого зависит от его воли. В произведении обнаруживается также новозаветный мотив эсхатологического времени: страх человека, ожидание наказания и конца жизни. Время для главного героя рассказа сжимается до мгновения и одновременно растягивается в долгом, неизвестном ожидании последнего срока. Библейские ветхозаветные и новозаветные мотивы соединены, свернуты в сюжете, углубляя жанр рассказа до притчи, а сюжет — до метафоры «последний срок». Мастерство Распутина выражается в активизации в его произведениях памяти предков, их религиозного мировосприятия. В итоге связь с христианско-православной традицией обнаруживается не только в поздней прозе и публицистике писателя, где она открыта, но и в раннем творчестве — в самом начале литературного пути.
Список литературы Мотив последнего срока в рассказе В. Распутина "Продается медвежья шкура"
- Бражников И. Л. Эсхатологический хронотоп в повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» // Творчество В. Г. Распутина в социокультурном и эстетическом контексте эпохи: коллектив. моногр. / И. Л. Бражников, А. А. Газизова, Т. А. Пономарева и др. М.: МПГУ 2012. С. 48-69.
- Дырдин А. О повестях Валентина Распутина // В. Г. Распутин. Четыре повести. Л.: Лениздат, 1982. С. 640-653.
- Дырдин А. Художественная аксиология В. Распутина в повести-трагедии «Живи и помни» // Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, литературная рефлексия. Сер. «Универсалии культуры» / отв. ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта: Наука, 2016. Вып. VII. С. 190-205.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 6 ч. / Моск. духов. акад. М.: Христиан. лит., 2001-2004.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 1995. 288 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. 550 с.
- Захаров В. Н. Прошлое, настоящее и будущее русской литературы // Современные проблемы метода, жанра и поэтики русской литературы: межвуз. сб. Петрозаводск, 1991. С. 3-10.
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 1994. Вып. 3. С. 5-11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (15.12.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 5-30 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/ journal/article.php?id=2472 (15.12.2020). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ 2001. Вып. 6. С. 5-20 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica. pro/journal/article.php?id=2511 (15.12.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2511
- Зеньковский В. В. Собр. соч. / сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишина. М.: Рус. путь, 2008. Т. 1: О русской философии и литературе: статьи, очерки и рецензии (1912-1961). 448 с.
- Иванова В. Я. Маятник эсхатологического времени в повести В. Г. Распутина «Последний срок»: способы художественной выразительности // Время как объект изображения, творчества и рефлексии: материалы Междунар. науч. конф. (Иркутск, 27 июня — 1 июля 2010 г.) / отв. ред. И. И. Плеханова. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. С. 357-363.
- Митрофанова И. А. Мифо-фольклорная и древнерусская традиция в повестях В. Г. Распутина: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. М., 1991. 20 c.
- Сигов В. К. Проза В. Г. Распутина (проблематика и поэтика): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02. Калинин, 1984. 215 с.
- Ужанков А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2011. 512 с.
- Хализев В. Е. Интуиция совести (теория доминанты А. А. Ухтомского в контексте философии и культурологии XX века) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 21-42 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2512 (15.12.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2512
- Цветова Н. С. Эсхатологическая топика русской традиционной прозы второй половины ХХ века. СПб.: Фак-т филол. и искусств СПбГУ, 2008. 220 с.
- Юрьева О. Ю. Хронотоп повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой»: этнопоэтический аспект // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 289-313 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/ files/redaktor_pdf/1561997953.pdf (15.12.2020). DOI: 10.15393/j9.2019.6682