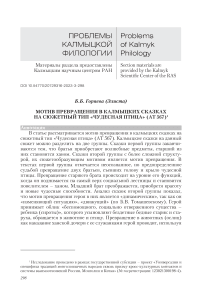Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567)
Автор: Горяева Б.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567). Калмыцкие сказки на данный сюжет можно разделить на две группы. Сказки первой группы заканчиваются тем, что братья приобретают волшебные предметы, старший из них становится ханом. Сказки второй группы с более сложной структурой, их сюжетообразующим мотивом является мотив превращения. В текстах первой группы отмечается неосознанное, но предопределенное судьбой превращение двух братьев, съевших голову и крыло чудесной птицы. Превращение старшего брата происходит на уровне его функций, когда он поднимается на самый верх социальной лестницы и становится повелителем - ханом. Младший брат преображается, приобретя красоту и новые чудесные способности. Анализ сказок второй группы показал, что мотив превращения героя в них является «динамическим», так как он «изменяющий ситуацию», «движущий» (по Б.В. Томашевскому). Герой принимает облик «беспомощного, социально отверженного существа -ребенка (сироты)», которого усыновляют бездетные бедные старик и старуха, обращается в животное и птицу. Превращение в животных (ослиц) как наказание ханской дочери с ее служанками герой проводит, используя вспомогательные средства (яблоко, лотос, лилия). Реализация изучаемого мотива дает разные формы, начиная от неосознанного превращения с неожидаемым результатом до осознанного превращения с ожидаемым итогом. Превращение происходит через вспомогательные средства животного и растительного происхождения. Отмечается в рассмотренных сказках и оборотничество как способность персонажа, причем не только в мире живых людей.
Калмыцкая волшебная сказка, мотив, превращение, оборотничество, герой, чудесная птица
Короткий адрес: https://sciup.org/149143106
IDR: 149143106 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-298
Текст научной статьи Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567)
Превращение – фольклорный мотив, в котором отражаются народные представления о способности живого существа или предмета изменять свой облик, внешний вид, ипостась, то есть о возможности стать другим существом, растением, предметом, камнем и т.п. [Виноградова 2004, 67]. Целью данной статьи является рассмотрение мотива превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567).
В устной традиции калмыков имеется несколько вариантов сказки на сюжетный тип «Чудесная птица» [Горяева 2011]. Сказки, соотносимые с указанным сюжетным типом, в калмыцкой сказочной традиции можно поделить на две группы. Сказки первой группы заканчиваются тем, что братья приобретают волшебные предметы, старший из них становится ханом. Сказки второй группы имеют более сложную структуру. Сюжетообразующим мотивом этих сказок является мотив превращения. Действие их происходит в соседнем ханстве, где младший из братьев наказывает дочь хана.
Материалом исследования явились опубликованные в разное время тексты сказок. Две сказки относятся к первой группе. Одна записана Г.Й. Рамстедтом в начале XX в. в Калмыцкой Степи, издана под № 10 в сборнике сказок ученого в транскрипции на латинице [Kalmückische Sprachproben 1909, 29–31]. Вторая опубликована в современной калмыцкой орфографии на кириллице в учебном пособии по развитию речи под названием «Алтар өндглдг богшурһа» («Воробей, несущийся золотом») [Кел өргҗүллһнә дегтр 1994, 128–129].
Тексты сказок второй группы также взяты из опубликованных источников. Сказка «Һунуха Дөнәкә хойр» («Гунуха и Денякя») [Хальмг фольклор 1941, 130–135; Хальмг туульс 1961, 67–71] записана в 30-е гг. ХХ в. учителями калмыцкого языка во время фольклорной экспедиции, опубликована в сборнике «Хальмг фольклор» в 1941 г., позже переиздана в первом томе «Хальмг туульс» 1961 г. Сказка «Эк уга үлдсн хаана хойр көвүн» («Два ханских сына, оставшихся без матери») опубликована по материалам фольклорных экспедиций сотрудников Калмыцкого НИИЯЛИ (ныне – КалмНЦ РАН) в третьем томе «Хальмг туульс» 1972 г. издания, записана от Гари Бембеева [Хальмг туульс 1972, 150–162]. Сказка «Алтн нуһсн» («Золотая утка») вышла в сборнике, представляющем репертуар современной сказительницы Т.С. Тягиновой (1930–2022 гг.) [Т.С. Тяги-нован амн урн… 2011, 43–48].
Мотив превращения героя в сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567)
В устной традиции калмыков сказки, соотносимые с сюжетным типом 567, как указано выше, можно поделить на две группы. Сюжет первой группы сказок повествует о находке чудесной птицы двумя братьями, которые избегают смерти от рук хана и заполучают волшебные предметы. К этой группе относится сказка под № 10 в сборнике Г.Й. Рамстедта:
Два брата у подножия кургана находят воробья, который испражняется золотом. Мальчики приносят птицу домой и прячут ее в сундук. Хан спрашивает у их родителей, почему они перестали брать бозо (молочную гущу от перегонки араки), и когда узнает, что у стариков полно золота, приказывает доставить ему чудесную птицу. Старуха по велению хана варит птицу, старший сын съедает голову, благодаря которой становятся ханом, младший – правое крыло, благодаря которому изрыгает золото. Хан, узнав, что братья съели голову и правое крыло воробья, велит умертвить их. Старуха отправляется на поиски сыновей, но не находит их и возвращается ни с чем. Мальчиков спасла, спрятав под подолом своего платья, ханская прачка, она советует им бежать и дает в дорогу масло в требухе и две связки сушеных творожных лепешек. В пути братья встречают трех послов хана, дерущихся из-за волшебных предметов. Два брата рассудили их спор, посулив чудесные вещи выигравшему в беге наперегонки. Мужчины убегают, герои забирают себе волшебные вещи [Kal-mückische Sprachproben 1909, 29–31].
Вариантом данного сюжета является сказка «Алтар өндглдг богшурһа» («Воробей, несущийся золотом»), опубликованная А.Л. Каляевым в учебнике по развитию речи [Кел өргҗүллһнә дегтр 1994, 128–129].
Братья находят волшебного воробья у подножия кургана. Здесь курган как возвышенность соотносим с горой, соединяющей средний мир с верхним. Воробей как представитель верхнего, иного, мира в данной сказке обладает чудесными свойствами. Кто съест голову волшебного воробья, станет ханом, кто съест правое крыло – будет плеваться золотом. Старший брат съедает голову птицы и становится ханом [Kalmückische Sprachpro-ben 1909, 29; Кел өргҗүллһнә дегтр 1994, 129].
Следует отметить, что мальчик не подозревает, что, проглотив голову чудесной птицы, он станет правителем, но об этом знает хан. Когда старуха приносит воробья, после того как старший ее сын съел голову, хан заявляет, что ему нечего есть, и требует умертвить и подать ее сыновей [Kalmückische Sprachproben 1909, 30].
В сказке «Алтар өндглдг богшурһа» хан, увидев, что нет головы и крыльев, спрашивает у старухи и, узнав, что братья съели заветное, требует их привести. Здесь также герои не подозревают о тех способностях, которые они приобретают, съев чудесную птицу. Таким образом, можно отметить неосознанное, но предопределенное превращение двух братьев.
Неосознанное превращение выделяется также Б.А. Коломакиной на материале волшебных сказок бурят и шорцев. В случае неосознанного превращения «исполнитель» и не подозревает о волшебном характере своих действий, отмечает исследователь [Коломакина 2012, 20].
Хотя найденная птица дарит чудесные способности, меняет социальную роль и функции героев, внешне воробей ничем не примечателен, у него обычный окрас – серый («бор богшрһа»). Однако братья находят его у подножия холма. Когда они приносят птицу домой и прячут ее в сундук, то оказывается, что воробей испражняется / несется золотом [Kalmückische Sprachproben 1909, 29; Кел өргҗүллһнә дегтр 1994, 55]. Это обстоятельство указывает на то, что воробей, несущийся золотом, является представителем иного мира.
Согласно исследованиям В.Я. Проппа, в волшебной сказке золото – признак тридесятого царства. Золото при описании иного царства встречается часто и в самых разнообразных формах, что позволило ученому сделать вывод: «Это – настолько типичная, прочная черта, что утверждение; “все, что связано с тридесятым царством, может иметь золотую окраску” может оказаться правильным и в обратном порядке: “все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою принадлежность к иному царству”. Золотая окраска есть печать иного царства» [Пропп 2000, 245–246].
Таким образом, в сказках первой группы отметим неосознанное превращение двух братьев – героев сказки, превращение старшего брата происходит в его социальной роли, когда он поднимается на самый верх социальной лестницы и становится повелителем – ханом. Младший брат меняется, приобретя новые чудесные способности.
В сказках второй группы на сюжет 567 «Чудесная птица» мотив превращения является сюжетообразующим. Сказка «Һунуха Дөнәкә хойр» («Гунуха и Дёнякя») на указанный сюжетный тип имеет следующее содержание:
Юноша-сирота, который пасет ханских коров, находит золотое яйцо и относит его хану. После чего хан повелевает юноше раздобыть курицу, несущую золотые яйца. Юноша выполняет трудную задачу, залезает на дерево без ветвей, достает курицу и приносит ее хану. В награду женится на младшей дочери хана. У них рождаются два сына Гунуха (Һунуха букв. Трехлетний) и Дёнякя (Дөнәкә букв. Четырехлетний). Позже, когда хан заболел, зять отправился за лекарством для него – за тремя яблоками, растущими в месте слияния неба и земли. В долгом пути юноша умирает. Старик-шулма появляется во дворце, представившись лекарем, врачует хана и женится на его дочери. Через некоторое время старик-шулма занемог, лекарством он назвал бульон из золотой курицы. Когда мясо было готово, Гунуха проглотил голову птицы, Дёнякя съел лопатку. Вскоре старик-шулма заболел тяжелее, на этот раз он потребовал бульон из почек и сердца мальчиков. Ханские слуги пожалели братьев, наказав им не выходить на улицу, отнесли внутренности собак. Однако мальчики показались старику, он опять захворал и потребовал сварить бульон из почек Гу-нухи и Дёняки. Слуги спасают от смерти мальчиков и отправляют их по дороге, сказав разойтись у развилки. Старший брат, усыпив младшего, отправляется дальше в путь, ему преграждает дорогу вороной конь, который должен выбрать нового правителя ханства, так как прежний скончался. Гунуха приходит во владения хана, дочь которого, позавидовав красоте юноши, заставляет его срыгнуть голову курицы и проглатывает ее сама. Герой наказывает ее, превратив в ослицу [Хальмг фольклор 1941, 130–135; Хальмг туульс 1961, 67–71].
Превращение героя в красавца происходит при проглатывании головы чудесной птицы. Этот случай назван В.Я. Проппом «трансфигурацией». Преображение героя в красавца отмечается исследователем при купании сказочного героя в молоке. «Но таким же красавцем он выходит, пролезая сквозь уши коня. Мы здесь имеем представление об омолаживающем или очистительном купании, но вместе с тем видим связь этого купания с прохождением сквозь животное. Если в русской сказке герой проходит сквозь уши коня, то в грузинской требуется выкупаться в молоке от коней, живущих на дне моря <…>. В грузинской же сказке старый король варится в котле, а когда в молоко опускается герой, конь из уха берет снег и подсыпает его в молоко, остужая его таким способом. Мы, таким образом, вынуждены заключить, что трансфигурация, апофеоз героя – основа этого мотива» [Пропп 2000, 297–298].
Отметим, что калмыцкий материал также дает случаи превращения неказистого героя в красавца после купания его в молоке (например, сказка «Кѳгшн буурл Шатрч хан» = «Старый седой Шатрч хан» из репертуара С. Манжикова).
В рассматриваемом случае мотив превращения героя в красавца является «динамическим», так как он «изменяющий ситуацию», «движущий» [Томашевский 1996, 184]. Ханская дочь, увидев героя-красавца, желает приобрести такую же внешность. Она дает поручение своей служанке Ца-ган, узнать, что съел Гунуха и стал так красив [Хальмг туульс 1961, 70].
Вариантом сказки на рассматриваемый сюжетный тип является сказка «Эк уга үлдсн хаана хойр көвүн» («Два ханских сына, оставшихся без матери»). Герои этой сказки – два брата, ханские сыновья, которые потеряли мать. Мачеха, на которой женился хан, была красавицей, воплощением ведьмы-шулмуски. Притворно заболев, ханша требует в качестве лекарства бульон из золотого петуха, который трижды в день плевался золотом. После приготовления голову петуха проглатывает младший брат, поэтому ханша, вновь заболев, требует бульон из почек и сердца двух сыновей хана. Когда пытаются убить братьев, их умершая мать по плечи появляется из-под земли и грозит ханскому сановнику.
Здесь следует отметить, что золотая окраска петуха есть знак иного мира, сам образ петуха во многих культурах мира связан с мифологиче- скими представлениями о солнце. Петух возвещает о восходе солнца. В калмыцкой традиции петух также представлен в наименовании времени суток, обозначает один из месяцев, называет год в двенадцатилетнем календарном цикле и других монголоязычных народов.
Братья отведали мяса золотого петуха прежде, чем мачеха-шулмуска успела его съесть, поэтому старший брат становится ханом, а младший изрыгает золото.
Снабдив провизией, старший сановник отсылает братьев. На развилке дороги братья расходятся. Старшему брату преграждает путь оседланный конь умершего хана соседнего нутука-владения, который был отправлен на поиски преемника. Таким образом, старший брат становится правителем-ханом.
Младший брат встречает в пути воров, укравших три волшебных предмета – золотой ковер, золотую трость, доставляющие в любое место, и шапку-невидимку. Он берется разрешить их спор и, отправив бежать наперегонки, забирает их чудесные вещи. С их помощью юноша пересекает океан и попадает в лес, идя по берегу, он видит лачугу, в которой живут бездетные бедные старик и старуха, становится их приемным сыном [Хальмг туульс 1972, 153–154]. Пересечение водного пространства в данном случае представляется как преодоление границы миров, когда герой попадает в иной мир.
О превращении героя в сиротку С.Ю. Неклюдов пишет следующее: «Прибыв в царство невесты (“чужое”, запредельное, иногда хтоническое), богатырь архаического эпоса и сказки подчас принимает облик беспомощного, социально отверженного существа – ребенка (сироты) или, реже, старика, приближаясь тем самым к рубежу смерть / рождение, и сохраняет “обращенный” облик вплоть до своего полного утверждения в новом статусе – статусе мужа» [Неклюдов 2016, 14].
Изменение внешнего облика героя не описывается сказкой, но то, что герой превращается в «паршивца», можно понять из формулы, произнесенной героем: «Үрн-садн уга күүнд үрн болх һазрт күрг» («Доставь в место, где я стану сыном для бездетных») [Хальмг туульс 1972, 153].
С.Ю. Неклюдов отмечает, что мотив оборотничества, в нашем случае превращение героя в мальчугана, может быть связан «с переходными обрядами, санкционирующими перемену состояния человека, которая интерпретируется как смерть в одном статусе и рождение в другом, что сопровождается пересечением пространственно-временных рубежей между областями мифологического космоса. Вспомним чудесные трансфигурации сказочно-эпических персонажей (включая их околдовывание), метаморфозы фольклорного героя при его перемещениях по шкале “высокое – низкое” и т. п.» [Неклюдов 2016, 14].
Мотив превращения как наказание ханской дочери в сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567)
Обретение героем красоты, его «трансфигурация» происходит после того, как он проглотил голову чудесной птицы. Ханская дочь, увидев кра- соту героя, желает заполучить чудесное средство. Обманом она получает голову золотой курицы (петуха). Здесь можно отметить неосознанное превращение героя и осознанное превращение ханской дочери.
Отобрав у младшего брата голову золотой курицы / петуха и проглотив ее, ханская дочь обретает красоту. Возвращение утерянного дает развитие мотиву превращения как наказания ханской дочери. Если в вышеприведенном случае превращение ханской дочери являлось осознанным, то теперь ее превращение становится для нее неожиданным. Но до этого обращения герой принимает облик животного для того, чтобы пересечь внешний океан. Рассмотрим подробнее это превращение.
Золотой ковер, золотая трость и шапка-невидимка помогают герою перенести ханскую дочь через океан. В сказке «Һунуха Дөнәкә хойр» хан, потеряв свою дочь, произносит клич, на который откликается старуха-шул-ма. Найдя девушку, старуха-шулма учит ее, как узнать способ, которым она была доставлена [Хальмг туульс 1961, 69]. В сказке «Эк уга үлдсн хаана хойр көвүн» ханской дочери снится сон, после которого она забирает волшебные вещи и покидает героя [Хальмг туульс 1972, 155]. Герой остается без средств преодоления водной границы.
Возможность преодоления внешнего океана герой узнает из разговора двух сорок – матери и дочери. Поев черных яблок, герой превращается в осла и переплывает океан, на другом берегу он ест красные яблоки и снова обращается в человека [Хальмг туульс 1961, 69].
Служанка ханской дочери, пришедшая за водой к колодцу, видит сияние, исходящее от красивого яблока в руках у юноши. Когда она просит угостить ее яблоком, герой ставит условие собрать сорок девушек. Когда сорок девушек во главе с ханской дочерью приходят к герою, он приказывает им закрыть глаза, сам кладет им в рот кусочки черного яблока и превращает их в черных ослиц. Таким образом, в данном случае неосознанное превращение ханской дочери происходит благодаря действиям превращающего с помощью волшебного фрукта.
В сказке «Эк уга үлдсн хаана хойр көвүн» герой, младший из братьев, узнает от благодарной сороки способ перебраться через море. Здесь для превращения в осла используется цветок лотоса, а лилии – чтобы стать красавцем. Преодолев водную преграду, герой приходит к колодцу, где встречает служанку ханской дочери, и говорит ей, что продает красоту.
При этом герой предлагает на выбор дочери хана и ее сопровождающим красоту временную (цаг зуурин сәәхн) и красоту на всю жизнь (на-сни туршин сәәхн). Последнюю можно купить только в полночь, поэтому девушки дожидаются назначенного времени, проглатывают по указанию героя цветки лотоса и превращаются в ослиц [Хальмг туульс 1972, 157].
В выше приведенных примерах можно отметить осознанное превращение, но с отрицательным результатом: превращаемые получили не то, что хотели. Превращение как наказание ханской дочери с ее служанками в животных (ослиц) герой проводит, используя вспомогательные средства (яблоко, лотос).
Оборотничество в сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567)
По определению С.Ю. Неклюдова, оборотничество в широком смысле слова – это «магическое изменение каким-либо существом своего внешнего вида. <…> В узком, собственном смысле слова – это временное, произвольное (чаще) или непроизвольное обретение чужого облика с последующим возвратом к своему первоначальному виду <…>; обычно подобные превращения имеют множественный, даже регулярный характер – ежегодный или ежедневный» [Неклюдов 2016, 13, 15].
В сказке «Һунуха Дөнәкә хойр» Гунуха, младший из братьев, наказав ханскую дочь, забирает у нее голову волшебной курицы и отправляется в соседнее ханство к своему старшему брату. Здесь он оборачивается черной кошкой, которая ловит без промаха (алдл уга хавлдг хар мис), чтобы поймать возлюбленного невестки, обернувшегося желтым воробышком [Хальмг туульс 1961, 71].
В приведенном примере черный цвет кошки можно объяснить выводами С.Ю. Неклюдова: «Согласно наблюдению “восточноазиатской модели”, начальными фазами превращения животного в оборотня становятся различные изменения, происходящие с его кожей / шкурой / мехом. Изменение масти на белую, а затем на черную, по-видимому, является не обретением новой расцветки, а, напротив, ее поэтапным обесцвечиванием, что синонимично потере животным шерсти (даже кожи), его полному “обнажению” и снятию звериной шкуры для перехода в “человеческое состояние”» [Неклюдов 2016, 30].
В сказках на рассматриваемый сюжетный тип не только герой может менять свою внешность, но и другие персонажи. Оборотничество жены старшего брата героя представлено в сказке «Эк уга үлдсн хаана хойр көвүн». Женщина под утро обращается птицей и летает в безлюдное пустынное место к большому рябому (цоохр) мужчине в одинокую юрту без веревок-креплений. Этот мужчина являлся женихом ханши, когда она еще была девушкой, засватал ее, но умер [Хальмг туульс 1972, 69]. Таким образом, текст сказки показывает, что умерший обращается в ястреба.
Заключение
В устной традиции калмыков сказки, соотносимые с сюжетным типом АТ 567 «Чудесная птица», можно поделить на две группы. Сказки первой группы заканчиваются тем, что братья приобретают волшебные предметы, старший из них становится ханом. Сказки второй группы имеют более сложную структуру, их сюжетообразующим мотивом является мотив превращения.
Исследование сказочных текстов первой группы показало неосознанное, но предопределенное судьбой превращение двух братьев, съевших голову и крыло чудесной птицы. Внешне не примечательный воробей («бор богшрһа»), несущийся золотом, является представителем иного мира. Превращение старшего брата происходит в его социальной роли, когда он поднимается на самый верх социальной лестницы и становится повелителем – ханом. Младший брат меняется, приобретя красоту и новые чудесные способности.
В сказках второй группы чудесной птицей выступает золотая курица / петух. Образ золотого петуха во многих культурах мира связан с мифологическими представлениями о солнце. В калмыцкой традиции петух встречается в наименовании определенного часа в сутках, обозначает один из месяцев и год в двенадцатилетнем календарном цикле народа.
Анализ сказок второй группы показал, что мотив превращения героя в красавца является «динамическим», так как он «изменяющий ситуацию», «движущий» (по Б.В. Томашевскому). Ханская дочь, увидев героя-красавца, желает приобрести такую же внешность. Это стремление девушки осуществляется, герой теряет голову чудесной птицы и волшебные предметы, оставшись без возможности преодолеть океан / море. Пересечение водного пространства в данном случае представляется как преодоление границы миров, когда герой попадает в иной мир.
Здесь герой принимает облик «беспомощного, социально отверженного существа – ребенка (сироты)», которого усыновляют бездетные бедные старик и старуха. Изменение внешнего облика героя не описывается сказкой, но то, что герой превращается в «паршивца», можно понять из формулы «үрн-садн уга күүнд үрн болх…» («<…> стану сыном для бездетных»).
Возвращение похищенной головы золотой курицы / петуха дает развитие мотиву превращения как наказания ханской дочери. Если в первый раз превращение ханской дочери являлось положительным, так как она приобрела красоту, то во второй раз превращение происходит с отрицательным результатом. Превращение как наказание ханской дочери с ее служанками в животных (ослиц) герой проводит, используя вспомогательные средства (яблоко, лотос). При этом герой первым еще до превращения ханской дочери принимает облик животного для того, чтобы пересечь внешний океан.
В сказках на рассматриваемый сюжетный тип не только герой может менять свою внешность, но и другие персонажи. Оборотничество жены старшего брата героя позволяет ей обращаться в птицу и общаться со своим умершим возлюбленным, который в свою очередь обращается в ястреба.
Таким образом, мотив превращения в сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» является сюжетообразующим. Его реализация дает разные формы, начиная от неосознанного превращения с неожидаемым результатом до осознанного превращения с неожиданным итогом. Превращение происходит через вспомогательные средства животного (голова и крыло птицы) и растительного (яблоко, лотос, лилия) происхождения. Отмечается в рассмотренных сказках и оборотничество как способность персонажа, причем не только в мире живых людей.
Список литературы Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Чудесная птица» (АТ 567)
- Виноградова Л.Н. Из словаря "Славянские древности". Превращение // Славяноведение. 2004. № 6. С. 67-70.
- Горяева Б.Б. Национальная специфика калмыцких народных сказок: локальные, контаминированные и обрамленные сюжеты // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 1. С. 182-187. EDN: OTUABZ
- Коломакина Б.А. Мотив превращения человека в животное в волшебных сказках бурят и шорцев // Сибирский филологический журнал. 2012. № 3. С. 19-23. EDN: PDAWOZ
- Неклюдов С.Ю. Оборотничество: "природа вещей", объем понятия, региональные версии // In Umbra: Демонология как семиотическая система. Альманах / отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. Вып. 5. М.: Индрик, 2016. С. 13-34. EDN: XEBWDL
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. редакция, текстологический коммент. И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
- Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие / вступ. ст. Н.Д. Тамарченко, коммент. Н.С. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. М.: Аспект Пресс, 1996. 334 с. EDN: YWMPGN