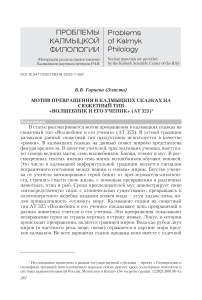Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "Волшебник и его ученик" (АТ 325)
Автор: Горяева Баира Басанговна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Волшебник и его ученик» (АТ 325). В устной традиции калмыков данный сюжетный тип продуктивно используется в качестве «рамки». В калмыцких сказках на данный сюжет широко представлена фигура вредителя. В качестве учителей, преследующих ученика, выступают семеро великих магов, семь волшебников, Бакши, гелюнг и мус. В рассмотренных текстах именно семь магов, волшебников обучают юношей. Это число в калмыцкой мифоритуальной традиции является сигналом пограничного состояния между нашим и «иным» миром. Бегство ученика от учителя мотивировано: герой бежит от преследователя-антагониста, стремясь спасти свою жизнь, с помощью превращения в различных животных, птиц и рыб. Среди преследователей мус демонстрирует свою «непосредственную связь с хтоническими существами», превращаясь в золотошерстного жеребца владыки хозяев воды - усун хадын эзена, являя принадлежность «чужому» миру. Калмыцкие сказки на сюжетный тип АТ 325 «Волшебник и его ученик» показывают цепь превращений в разных животных учителя и его ученика. Эти превращения показывают возвращение героя из страны мертвых в страну живых. Локус, в котором происходят превращения, является границей миров. Вода как рубеж двух миров (в частности река, море, океан) отражается в картине мира предков калмыков. Во всех вариантах сказок продажа коня вместе с уздечкой оборачивается бедой для превращенного героя, так как узда, которой был укрощен конь, приобретала магическую силу.
Волшебная сказка, мотив, превращение, герой, волшебник, учитель, ученик, иной мир, река
Короткий адрес: https://sciup.org/149142773
IDR: 149142773 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-282
Текст научной статьи Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "Волшебник и его ученик" (АТ 325)
Превращение – фольклорный мотив, в котором отражаются народные представления о способности живого существа или предмета изменять свой облик, внешний вид, ипостась, т.е. о возможности стать другим существом, растением, предметом, камнем и т.п. [Виноградова 2004, 67]. Понятие мотива освещено в теоретической литературе [Веселовский 1989; Путилов 1975; Силантьев 2004]. Целью данной статьи является рассмотрение мотива превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип «Волшебник и его ученик» (АТ 325).
Реализация сюжета «Волшебник и его ученик» (АТ 325) в калмыцкой сказочной традиции имеет свои особенности [Горяева 2011a]. В устной традиции калмыков данный сюжетный тип продуктивно используется в качестве обрамляющего сюжета [Горяева 2011b]. Причем этот сюжет выступает в качестве «обрамляющего» в двух художественных системах – устной и письменной [Бичеев 2012, 281].
Сюжетообразующим мотивом сказок на данный тип является мотив превращения. При рассмотрении мотива превращения в указанном сюжетном типе нами использованы шесть текстов как в переводе на русском, так и на калмыцком языках. Сказка «Семеро великихъ маговъ» на сюжетный тип АТ 325 «Волшебник и его ученик» опубликована Лером в 1873 г. в сборнике «Калмыцкие сказки» [Калмыцкие сказки 1873, 30–32]. В письменном памятнике «Волшебный мертвец» сказка на этот сюжетный тип является «рамкой» для вставных рассказов [Волшебный мертвец 1958, 15–19]. В фольклорном сборнике М. Буринова «Седклин күр» («Задушевный разговор») есть также обрамление на сюжетный тип «Волшебник и его ученик» [Седклин күр 1960, 7–10]. В репертуаре сказительницы А.З. Кутуктаевой cказка «Ууштын шүтән» (Статуя Уушт) относится к рассматриваемому сюжетному типу [Ууштын шүтән 2016]. Сказка в записи от К. Бадмаева «Һа-хан толһа белгч» («Гадатель со свиной головой») рассказывается в «рамке» на сюжетный тип АТ 325 [Хальмг туульс 1972, 203–208]. Сказка Санджи Бутаева «Седкүр бурхни тууҗ» («История о бурхане Седкюр») включает три обрамленных сюжета. «Рамкой» выступает сказка на сюжетный тип АТ 325 «Волшебник и его ученик» [Буутан Санҗин туульс 2008, 21–38].
Мотив превращения в сказках на сюжетный тип «Волшебник и его ученик»
В устной традиции имеется несколько вариантов сказки на сюжетный тип «Волшебник и его ученик». Сказка «Семеро великихъ маговъ» на сюжетный тип АТ 325 опубликована Лером в 1873 г. в сборнике «Калмыцкие сказки». К сожалению, составителем не отмечены источники и не указан автор переводов на русский язык. Приведем сюжет данной сказки.
В «среднемъ Индостане» жили семь мудрейших магов, которые обучали учеников. Однажды один из них – ханский сын, научился тому, что мог по желанию обратиться в лошадь. Чтобы сохранить тай- ные знания маги набросились на нее в облике семи львов. Когда лошадь бросилась в реку и превратилась в рыбу, семь магов обернулись в семь цаплей. Рыба превратилась в голубя, маги – в семь ястребов. Голубь залетел в грот к Кангазука и поведал о преследовании, затем превратился в самый большой шарик в четках и попросил спрятать его. Остальные зерна четок стали червями, семь нищих стали клевать их в образе кур. После того как Кангазука выплюнул изо рта шарик, он превратился в человека с мечом и порубил семь кур. Затем Кангазука отправляет ханского сына через мрачный лес с привидениями в рощу смерти за Сиддиксором. Сверху золотого, снизу медного с серебряной головой Сиддиксора надо принести, не произнеся ни слова. Ханский сын выполняет задание мудреца [Калмыцкие сказки 1873, 30–32].
Как видим, действие сказки происходит в Индии. Маги обучали учеников, но при этом не желали выдавать тайные знания. Юноша, превзошедший своих учителей, отправляется за Сиддиксором через лес в рощу смерти. В.Я. Проппом отмечалась особая функция этого локуса в сказочном повествовании, что «лес окружает иное царство, что дорога в иной мир ведет сквозь лес» [Пропп 2000, 41].
С вышеприведенной сказкой схож обрамляющий сюжет «Семь волшебников и царевич» «монгольско-ойратского» (Владимирцов) сборника «Волшебный мертвец», восходящего к древнеиндийской литературе.
У семи волшебников в Индии обучается старший из двух братьев-царевичей. Младший брат принес еды старшему, подглядел и выучился волшебству. По возвращении домой младший из братьев превращается в коня, старшему дает поручение продать его, но при этом оставить у себя узду. Волшебники разгадали план юноши и купили коня вместе с уздой, заточили его. Во время водопоя конь превращается в рыб, волшебники – в семь щук, юноша становится голубем, волшебники – коршунами. Голубь, залетев в пещеру, превращается в главный шарик-бумб четок Нагарджуны и просит помощи у него. В тот момент, когда зерна четок рассыпались и стали червяками, волшебники превратились в семь кур. После их убийства юноша по приказу Нагарджуны отправляется за волшебным мертвецом, в которого вселился демон [Волшебный мертвец 1958, 15–19].
В вышеприведенных двух текстах именно семь магов, волшебников обучают юношей. Следует отметить, что число семь имеет определенное значение в калмыцкой мифоритуальной традиции: «Число 7, как и цифра 3, – сигнал пограничного состояния между нашим и “иным” миром» [Омакаева 2001, 67].
В устной традиции варианты сюжета являются «обрамляющими». Сказитель Муутл Буринов сказку на рассматриваемый сюжет использовал в качестве рамки сборника «Седклин күр» («Задушевный разговор»).
У бедных стариков три сына. Старшие братья, постигнув у черного большого человека – муса тайны волшебства, расстались с жизнью.
Младший брат украдкой подсмотрел магические знания и превратился в коня, наказав отцу не продавать его мусу и не отдавать уздечку. Мус через другого человека покупает коня и запирает его. Дети муса, нарушив запрет, ведут коня на водопой. У реки он превращается в мальков и бросается в воду. Мус в погоне за ним превращается в щуку, далее беглец обращается в утку и зайца, мус – в ястреба и сокола. Герой воплощается в главный шарик четок ламы. Рассыпавшиеся зерна четок стали пшеном и мус, превратившись в курицу с семью цыплятами, склевывает их. Юноша убивает курицу и цыплят и для искупления греха по приказу ламы отправляется за Арша Ики ламой, который рассказывает удивительные истории, но после восклицания героя возвращается на прежнее место. Юноша все же доставляет великого ламу и получает прощение [Седклин күр 1960, 7–10].
Мус изображается как «высокий большой черный человек» – «өндр ик хар күн». Именно у муса обучаются волшебству два старших сына старика и старухи. Своего первенца родители сами привели к мусу для обучения. Заветные знания, которые приобрел юноша, заключаются в умении перевоплощаться. Мус решает убить ученика, познавшего тайну превращения. Сына старика, принявшего облик красивой собаки, он купил за тулум – мешок золота, а потом заморил голодом в темном сарае [Седклин күр 1960, 7].
Среднего сына стариков, который превзошел в знаниях брата, мус обманом заставил вернуться, заточил и также заморил голодом. Младший брат тайком отправляется к мусу, по вечерам подслушивает то, что он говорит своим детям, и постигает трехлетнюю учебу братьев за три месяца.
Мус карает своих учеников, постигших тайны оборотничества. Данный персонаж имеет жилище, детей, отмечается, что мус большой, высокий, черный – «ик хар күн», «өндр хар күн». Текст сказки содержит еще одно описание муса: «Алдрад һарсн мөриг үзсн мус, ардаснь усн хадын эзнә алтн нооста аҗрһ болад, арднь орад көөһәд һарв» (Увидев вырвавшегося коня, мус вслед за ним бросился [в воду], превратившись в золотошерстного жеребца владыки хозяев воды – усун хадын эзена (перевод здесь и далее наш – Б.Г.)) [Седклин күр 1960, 9].
Золотая окраска – признак иного мира. Золотая шерсть жеребца показывает его принадлежность «чужому» миру. При рассмотрении образа муса в калмыцких сказках Д.В. Убушиева отмечает: «В цикле сказок “Седклин күр” ‘Задушевный разговор’ ик хар күн назван мусом, но сюжет демонстрирует его непосредственную связь с хтоническими существами». Образ хтонического «ут (ик) хар күн» встречается в ряде калмыцких волшебных сказок и связан с водным миром [Убушиева 2017, 54].
Река – локус, в котором происходят превращения, является границей миров. Вода как рубеж двух миров (в частности река, море, океан) отражается в картине мира предков калмыков. Как отмечает Т.Д. Скрынникова, рассматривая символическое сакральное пространство бурятского фольклора: «в традиции не только бурят, но и многих народов алтайской языковой семьи существуют представления об оппозиции Небу не только в форме Земли, но и земля – вода (газар – усун), что может образовывать тернарную структуру:
Небо – Земля – Вода, поскольку Земля – Вода (Земля – Море) выступает в качестве универсальной оппозиции: верх – низ в мифе о сотворении мира (мотив погружения птицы на дно за землей) <…>. Примеров того, что вода / море служат маркером чужого мира или границей между своим и иным мирами, множество <…>. Моря окружают свою территорию – Желтое море, Черное море <…>. И часто для того, чтобы достичь иного мира, где живут существа иной природы, можно перейти реку, преодолеть море или погрузиться в него» [Скрынникова].
На эпическом материале калмыков отмечаются случаи представления океана как пограничной черты между двумя странами (Бумбой и вражеской страной Замбал хана), моря Шарту как некой мифологической границы, разделяющей два мира [Убушиева 2011, 304].
В рассматриваемой сказке дети муса в его отсутствии выводят коня на водопой, сняв с него удила. Приведем этот эпизод.
«Эн күүкдиг үзсн мөрн, толһа сүүләрн наадад, инцхәһәд бәәнә. Мана аав мартчкад мөрнәннь амһа эс авч. Мөрнә амһа авчкад, услхар өөр шидр бәәсн һол орад һарна.
Әәләс ирҗ йовсн мус амһа уга мөр көтлҗ йовсинь үзчкәд:
– Күүкд минь, ааван күләтн! – гиҗ хәәкрв».
(Увидев этих детей, конь стал ржать, играя головой и хвостом. Наш отец, позабыв, не снял удила этому коню. Сняв удила, повели напоить к реке, что была рядом. Мус, возвращавшийся из гостей, увидев, что ведут коня без удил, закричал:
– Дети мои, отца подождите!) [Седклин күр 1960, 9].
В данном фрагменте отмечается, что у коня нет удил. Удила с уздечкой фигурируют также в начале сказки, когда младший сын стариков превратился в коня и отправился продать его, наказав отцу не отдавать узду. Запрет на то, чтобы не отдавать узду при продаже коня, был нарушен.
Значение узды отмечается Р.Г. Назировым: «Уздечка – это фольклорно-эпический символ большой распространенности. Так, например, в древнегреческом сказании о Беллерофонте повествуется, что многократные попытки этого героя укротить крылатого коня Пегаса оставались безрезультатными, пока в сновидении Беллерофонту не явилась Афина, подарившая ему золотую уздечку; пробудившись, герой нашел при себе эту уздечку, взнуздал ею Пегаса и подчинил его себе» [Назиров].
Во всех вариантах продажа уздечки вместе с конем оборачивается бедой для героя. Схожая ситуация складывается и в калмыцкой сказке [Седклин күр 1960, 9]. Этот обычай отмечается как в восточнославянских, так и в западных вариантах сказок на сюжет СУС «Хитрая наука» [Бараг, Новиков 1985, 426].
Р.Г. Назиров отмечает, что при покупке можно взнуздать коня собственной уздой, однако по обычаю продавец с конем отдавал и узду. Таким образом, узда, которой был укрощен конь, приобретала магическую силу. При передаче узды человек получал власть над конем. В сказках на сюжет «Хитрая наука» юноша, превратившись в коня, может убежать от пресле- дователя, если был продан без узды, но продажа вместе с уздой делает его беспомощным против колдуна [Назиров].
Сказка «Седкүр бурхни тууҗ» («История о бурхане Седкюр») в исполнении сказителя Санджи Бутаева включает три обрамленных сюжета. «Рамкой» выступает сказка на сюжетный тип АТ 325 «Волшебник и его ученик».
Младший из трех братьев учится волшебству. По возвращении домой он превращается в коня и поручает братьям продать его. Разгадав замысел юноши, семь братьев-волшебников, которые обучались вместе с младшим из трех братьев, покупают коня. Их отец выводит коня на водопой. Конь, войдя в море, превращается в малька, братья-волшебники вслед за ним – в щук. Юноша перевоплощается в зайца, затем – в лису, волшебники – в гончих. За юношей в облике птицы гонятся семь сорок, герой обращается к ламе, живущему на краю хотона, и воплощается в главный шарик его четок, рассыпавшиеся зерна четок превращаются в пшено. Семь волшебников превращаются в семь куриц с сорока девятью цыплятами. После этого герой, став человеком, убивает их. Чтобы искупить грех за убийство, он отправляется за бурханом Седкюр, которого должен принести, не произнеся ни единого слова. Бурхан по пути начинает рассказывать истории так, что юноша восклицает, выражая свои эмоции, после чего вновь возвращается за бурханом [Буутан Санҗин 2008, 21–25].
В сказке фигурируют семь братьев-волшебников, которые превращаются в семь куриц с сорока девятью цыплятами. Хронотоп души – это числовой код 3 – 7 – 21 – 49 (последние две цифры – это производные от цифры 7: 7х3=21, 7х7=49), отмечает Э.У. Омакаева. Согласно калмыцкой космологии, наш мир окружен 7 горами. Душа, по калмыцким представлениям, улетает за 7 гор. Чтобы ее вернуть владельцу, необходимо совершить специальный обряд «сюмсе дуудхы» («вызывания души») [Омакаева 2001, 67].
По народным представлениям, душа умершего достигает «иного» (үннә букв. правдивого, сәәни букв. лучшего) мира через 49 дней, в течение которых ее путь должен освещать негасимый свет лампады-зул.
Юноша, постигший тайну перевоплощения, спасаясь от погони, из коня обратился в малька, затем в зайца и лису. Т.Г. Басангова отмечает хтоническую сущность зайца, отраженную в фольклоре калмыков, его связь с иным миром [Басангова 2019, 106].
В мифологических представлениях бурят зайцы наряду с другими животными воспринимались как духи-помощники шамана, они «считались, как и шаман, посредниками, способными проникать из Среднего, земного, мира в иные миры, например, в подземное пространство» [Бадмаев 2020, 726].
Е.Я. Джамбинова на материале калмыцких сказок замечает, что младшая дочь или младшая сестра, чтобы спасти жизнь брата, совершает героические поступки, при этом превращаясь в зайца, когда это необходимо. Этот мотив превращения трактуется ею как временная смерть, связанная с обрядами посвящения (по Проппу) [Märchen der Kalmücken 1993, 127–130].
В представлениях бурят с зайцем связывалась способность оборотни-чества. Превращение в животное у бурят является признаком медиатора между мирами и не несет отрицательной коннотации [Бадмаев 2020, 726].
Превращение в лису в тексте сказки также имеет свои основания, так как ее образ соотносим с нижним миром [Басангова 2019, 91]. Кости черепа лисы крепили к вороту верхней одежды детей, чтобы отпугнуть от них злых духов [Шараева 2011, 69].
Калмыцкие сказки на сюжетный тип АТ 325 «Волшебник и его ученик» показывают цепь превращений в разных животных учителя и его ученика. Исследовав материалы по воплощениям в различных животных в Африке и сходные представления в Египте, В.Я. Пропп заключает: «Возвращение из страны мертвых в страну живых сопровождается превращением в животных» [Пропп 2000].
Мотив узнавания в сказках на сюжетный тип АТ 325
Из шести вариантов сюжета, рассмотренных нами, только в одном имеется мотив узнавания сына среди учеников.
В репертуаре сказительницы А.З. Кутуктаевой (из рода Гюсюн-Эрке-тен, уроженки станицы Варшавской бывшего Верхне-Уральского уезда Оренбургской области), записанном А.В. Бадмаевым и Н.Н. Убушаевым под руководством А.Ш. Кичикова в 1961 г. в г. Элисте, имеется сказка «Ууштын шүтән».
У супругов, долго бывших бездетными, родится ниспосланный небом сын, его по прошествии семи лет родители отдают некоему Бакши (Учитель), у которого обучаются мудрости семь мальчиков. Бакши не желает возвращать сына родителям, предлагает узнать сына из восьми учеников-послушников, которых превращает в восемь черных воронов (у сына стариков одна нога – красная, другая – синяя), баранов (сын стариков с большими желтыми ушами), черных коней, запряженных в телегу, (сын стариков левой ногой притопывает), и конфликт завершается «поединком» между учителем и его учеником. Погоня проходит с превращениями. После «победы» герой, по совету ламы, для искупления греха за убийство учителя должен принести на правом плече священный бронзовый талисман – Ууштин-шутэн, который думает и говорит как живой. По пути Ууштин-шутэн рассказывает истории, юноша не удерживается и произносит слова, после чего талисман исчезает, и герой дважды возвращается за ним [Ууштын шүтән 2016].
Подчеркнем то, что обрамленные сюжеты взяты из калмыцкого фольклора, а в обрамлении, структурно сходным с бытующим в устной традиции, вместо муса выступает Бакши, место Арша Ики ламы занял бронзовый талисман – Ууштин-шутэн. Сказительницей зачин расширен за счет мотива о бездетных старике и старухе, через всю сказку проходит «красной нитью» мысль о почитании и любви к родителям.
Старик и старуха принимают решение, если у них родится сын, отдать его на обучение в качестве манджика – послушника при хуруле. Сын стариков становится восьмым учеником Бакши – Учителя. Учеба дается мальчику легко:
«Манҗ нег җилд ном үзнә, хойр җилд ном үзнә, тиигәд һурвн җил болна; болхларн, багшинән [багшиннь] өрүни зааҗ өгсинь үд күлтр [күртл] сурад [дасад], үдлә заасинь асхн күлтр сурад бәәдг болҗ; багшин ис [эс] өгсн дегтриг секәд, эрвән [эврән] сурад бәәдг болҗа-на. Долан манҗас дегд ик хурдн номта болҗ одв; багш дегд ик дурта болв; тер долан манҗас доталад бәәдг болҗана» («Манджик один год изучает науку, второй год изучает, так три года проходит; обучаясь, то, что учитель объяснял утром, до обеда запоминал, то, что в обед объяснял, до вечера запоминал, книги, которые не давал учитель, сам открывал, изучал. По знаниям своим стал он превосходить остальных семерых манджиков; стал он любимцем бакши; относился лучше, чем к другим семи) [Ууштын шүтән 2016].
Бакши не может расстаться со своим лучшим учеником, поэтому, когда родители просят отпустить его домой, учитель ставит условие: узнать своего сына среди восьми черных воронов, стада баранов, черных коней, привязанных к телеге. Благодаря подсказкам сына старик угадывает его среди птиц и животных, но бакши не отдает его, рассердившись, оставляет юношу в облике коня под палящим солнцем. Поддавшись на уговоры племянницы, бакши дает задание семерым манджикам напоить коня. Конь человеческим голосом просит ослабить поводья и окунуться в воду. Как только он попадает в воду, превращается в ерша, гонимый щукой, в которую обратился бакши, юноша превращается в утку, а потом рассыпается зерном в шалаше буддийского священнослужителя-ламы. Пока учитель-бакши в образе курицы склевывал почти все зерна, ученик превратился опять в человека, спросил у ламы топор и зарубил птицу.
Мотив узнавания сына среди учеников волшебника отмечен только в одном из шести вариантов калмыцких сказок, имеющихся в нашем распоряжении. Герой попал к вредителю не насильственным путем (похищение), родители привели его сами по доброй воле. Ни старики, ни их сын не знали, какой «хитрой науке» будет он обучаться.
Как видим, в сказке герой попадает к вредителю, но спасается, прибегая к «хитрой науке», которую усвоил. Здесь можно привести наблюдения Е.М. Мелетинского: «Попадание во власть демонического существа в принципе может привести к гибели жертвы, и такие варианты встречаются в мировом фольклоре. Но в применении к герою (особенно в сказке) эта опасная ситуация получает благополучное разрешение в парном мотиве «спасения от демонического существа».
Если герой сам стал жертвой демонического существа, то его спасение, как правило, совершается не посредством богатырского поединка, а с помощью особой ловкости, хитрости, магии» [Мелетинский 1994, 58].
Рассмотренные нами сказки на сюжетный тип «Волшебник и его ученик» представляют оба варианта, отмеченных Е.М. Мелетинским, с гибелью и спасением «жертвы».
Заключение
В калмыцких сказках на сюжет «Волшебник и его ученик» широко представлена фигура вредителя. В качестве учителей, преследующих ученика, в сказке 1873 г. издания выступают семеро великих магов, семь волшебников, Бакши, гелюнг и мус. В рассмотренных текстах именно семь магов, волшебников обучают юношей. Это число в калмыцкой мифоритуальной традиции является сигналом пограничного состояния между нашим и «иным» миром.
Бегство ученика от учителя мотивировано: герой бежит от преследователя-антагониста, стремясь спасти свою жизнь, с помощью превращения в различных животных, рыб и птиц. Среди преследователей мус демонстрирует свою «непосредственную связь с хтоническими существами», превращаясь в золотошерстного жеребца усун хадын эзена, являя принадлежность «чужому» миру.
Калмыцкие сказки на сюжетный тип АТ 325 «Волшебник и его ученик» показывают цепь превращений в разных животных, рыб и птиц учителя и его ученика. Эти превращения демонстрируют возвращение героя из страны мертвых в страну живых. Локус, в котором происходят превращения, является границей миров. Вода как рубеж двух миров (в частности река, море, океан) отражается в картине мира предков калмыков.
Список литературы Мотив превращения в калмыцких сказках на сюжетный тип "Волшебник и его ученик" (АТ 325)
- Бадмаев А.А. Заяц в традиционных представлениях и обрядах бурят // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2020. Т. XXVI. С. 723-729.
- БарагЛ.Г., Новиков Н.В. Примечания // Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. М.: Наука, 1985. Т. II. С. 389-459.
- Басангова Т.Г. Животные в калмыцком фольклоре. Элиста: КалмГУ, 2019. 192 с.
- Бичеев Б.А. Ойратский сборник обрамленных рассказов «Волшебный мертвец» // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012. № 1. С. 278-281.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 405 с.
- Виноградова Л.Н. Из словаря «Славянские древности». Превращение // Славяноведение. 2004. № 6. С. 67-70.
- (а) Горяева Б.Б. Национальная специфика калмыцких народных сказок: локальные, контаминированные и обрамленные сюжеты // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 1. С. 182-187.
- (b) Горяева Б.Б. Сюжет «Волшебник и его ученик» (AT 325) в калмыцкой сказочной традиции // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 2. С. 153-156.
- Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1994. 136 с.
- Назиров Р.Г. Бесценная уздечка. URL: http://nevmenandr.net/nazirov/ nazirov-uzdechka.pdf (дата обращения: 21.01.2023).
- Омакаева Э.У. Число и цвет в текстах калмыцкой мифоритуальной традиции // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре / отв. ред. М.М. Шахнович. Вып. 8. Сб. в честь 90-летия проф. М.И. Шахновича. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 65-67.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
- Путилов Б.Н. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору. М.: ГРВЛ «Наука», 1975. С. 141-155.
- Силантьев И.В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 286 с.
- Скрынникова Т.Д. Символическое сакральное пространство бурятского фольклора. URL: http://mion.isu.rU/fileaarchive/mion_publcations/turov/s.html (дата обращения: 21.01.2023).
- Убушиева Д.В. Мотив преодоления водного пространства и преодоления пути посредством скачек (на материале песен багацохуровского цикла калмыцкого героического эпоса «Джангар») // Монголоведение (Монгол судлал). 2011. № 5. С. 302-308.
- Убушиева Д.В. Водный мир в сказках астраханских и донских калмыков // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2017. № 4(4). С. 49-81.
- Шараева Т.И. Обряды жизненного цикла калмыков (XIX в. - нач. ХХ в.). Элиста: НПП «Джангар», 2011. 223 с.